
‹ВОСПОМИНАНИЯ О ТОЛСТОМ›1*
I
В один из дней первой половины декабря 1876 г. стояла хмурая, мокрая погода, по улицам были лужи, грязный снег. Я шел в университет по Моховой от Охотного ряда и вдруг на углу Никитской, переходя на другую сторону, увидал остановившуюся среди улицы карету, а в карете человека, который к кому-то громко обращался с вопросом, можно ли теперь застать кого в университете. Я не обратил внимания на это, хотя и видел, как затем карета проследовала дальше, повернула на двор нового университетского здания, куда шел и я. Идя двором, я видел, как из кареты вылез человек в хорошей шубе, стал на лестнице и, видимо, поджидал меня... Я подошел.
— Вы студент? — спросил он, должно быть, усомнившись в моем студентском звании, так я был плохо одет да и не по сезону, в каком-то плохом осеннем пальтишке.
— Да, студент.
— Что, ректора видеть можно?
— Вероятно, можно.
И мы вошли оба внутрь. Я разделся, с кем-то встретился и разговорился и только мельком видел, как товарищ мой Долгов разговаривает с тем же человеком. Потом, смотрю, что распрощались, швейцар отворил дверь, и человек этот ушел.
— А ведь барин-то служил в военной службе, — заметил, ни к кому в особенности не обращаясь, швейцар, когда захлопнулась дверь.
— Знаете, это кто? — спросил подошедший ко мне Долгов.
— Кто?
— Лев Толстой.
— О чем вы с ним говорили?
— Надо ему учителя для школы... Я было указал на своего дядю Сергея Михайловича Бородина...
Признаюсь, встреча произвела на меня впечатление скорей неблагоприятное: я, как и большинство тогдашней молодежи, мнил себя демократом, и человек в карете и хорошей шубе не мог не оскорбить моих демократических чувств, хотя бы и Л. Толстой.
II
Мог ли я думать, что мне придется когда-нибудь жить под одним кровом с Л. Толстым, с которым я встретился так внезапно? А вышло между тем именно так.
Прошло четыре года. Я кончал курс ‹...›
Хотя я и не очень прельщался службой, но делать что-нибудь все ж таки было надо, и меня привлекал юг — стал проситься в Одесский округ. Как-то очень скоро пришло извещение, что я назначен преподавателем древних языков в Симферополь. Я выслал документы и стал ждать... Ждал я целое лето, и в конце августа в ответ на мою телеграмму из округа меня известили, что на мое место назначен кто-то из тамошних стипендиатов...

ТОЛСТОЙ В СВОЕМ КАБИНЕТЕ В ХАМОВНИЧЕСКОМ ДОМЕ
Дом-музей Толстого в Хамовниках, Москва
В то самое утро, когда я получил это извещение, неожиданно приходит ко мне мой товарищ Корелин и говорит, что Толстому нужен домашний учитель.
— Я вспомнил, что вы, кажется, без места, и указал на вас.
— Какому Толстому — министру1 или писателю?
— Писателю. Он заходил в университет, а у моей жены там знакомый делопроизводитель, через него-то Толстой и узнал мой адрес и был у меня... Мы говорили о вас...
— Что же вы говорили?
— Я говорил, что у меня на примете есть человек хороший и для него годный, но в нем один недостаток, — равнодушие...
Равнодушие! Корелин, наверное, разумел равнодушие к материальному обеспечению, к чему он сам был уж очень неравнодушен, на чем, может быть, даже зарвался и раньше времени умер. Лучшей рекомендации для меня не могло и быть. Сколько молодого народу было в то время неравнодушно — кто устраивал заговоры, кто взрывал поезда и стрелял в жандармов, кто просто хотел устроиться получше да попрочнее... Я знаю, что до меня у Толстых учили гимназисты из Тулы, из которых один был неравнодушен к комфорту (он и слово-то комфорт произносил, говорят, как-то смачно, в нос), а другой, приезжий, гостивший до меня летом, рассчитывал, как бы, поступив к Толстым, не прогадать, боже сохрани, на службе... А тут вдруг равнодушие! Это пахло, пожалуй, чем-то новым, интересным, а художественный аппетит у Льва Николаевича был, как я после убедился, колоссальный; глоталось все, и, когда нужно, проглоченное являлось на свет божий и снова послушно ложилось на бумагу... Л. Н. бывал даже не прочь подбить другого на какой-нибудь эксперимент, чтобы посмотреть, что из этого будет, не выйдет ли чего-нибудь интересного... Едва ли я ошибусь, сказав, что отчасти благодаря такой рекомендации я попал в интересные люди.
— Вы сходите к нему, — продолжал Корелин, — он остановился на Тверской, в доме вице-губернатора2.
Корелин ушел, и я тотчас же отправился на Тверскую. Вхожу, спрашиваю о Толстом, говорят: сейчас доложим.
«Вот они, графы-то!» — подумалось мне...
Служитель, однако, скоро вернулся и сказал, что граф просит к себе.
Я вошел в комнату, где граф был не один. Сам он сидел за письменным столом, а около него были Красовский3, показавшийся мне похожим на шута и ставший впоследствии, кажется, губернатором томским, и П. А. Берс4, шурин графа, будущий издатель «Детского отдыха».
Граф поднялся от письменного стола и пошел мне навстречу. Я назвал себя.
— Ах, извините, Иван Михайлович, я в халате...
Боже, как показалось мне это извинение скверно! Я уже ради своих демократических чувств не терпел церемоний, а тут вдруг извинение перед мальчишкой, худым, бледным, в каком-то коротеньком пиджачке, извинение явно неискреннее, фальшивое. Меня резануло по сердцу.
— Как ваш товарищ любезен! — продолжал граф, когда мы сели у стола... — Вы поступите к нам, будете заниматься с троими... Старший мой сын Сергей, дельный, усердный, но не умеет, что называется, показать товар лицом... Судя по вашим летам, он будет скорей вам товарищем. Он готовится к выпускному экзамену. Вы будете заниматься с ним древними языками... Средний, Илья, — у этого начинают развиваться половые наклонности, он все бегает на кухню — с ним, как и с младшим Левой, вы будете заниматься тоже древними языками... И он заговорил что-то о гувернерстве и нравственном влиянии...
— Я не могу быть гувернером, — сказал я, — и как я могу вам поручиться, что буду иметь нравственное влияние? Учителем я быть могу, но гувернером нет.
— Я знаю, что вы не согласитесь быть гувернером, — спохватился граф, — да этого и не надо: влияние, коли оно будет, то хорошо, а коли нет — делать нечего... Жить вы будете у нас, тысяча рублей в год. Жить в деревне не то, что в городе, одежда, например, в деревне нужна не такая, как в городе...
Далее мы заговорили о службе. Я рассказал, что хотел уехать служить в Одесский округ, но не удалось. Он мне отвечал, что молодому человеку вредно начинать со службы.
— Как же быть, — возразил я, — ведь чтобы делать что-нибудь вне службы, надо иметь в себе много сути...
— Вы говорите о службе, точно о молотилке, которая, что ни попади, все сотрет — и зерно, и, извините, г... Вы слишком скромны!
Сказать по правде, говоря про суть, я разумел адвокатов, докторов, которые и без службы благодаря, как мне казалось, талантам и знанию зарабатывают много денег; сказал спроста, а он, видимо, понял по-своему.
Я — равнодушный, я, когда все другие поступили куда-нибудь на службу, оставшийся не у дел, вдруг говорю, что надо много иметь сути, чтобы заниматься чем-нибудь, помимо службы! Выходило, что служба — это деятельность, на которую годен, пожалуй, и отброс (с чем я доселе согласен), — воображаю, как повысило это мои фонды!
— Так вы согласны ехать к нам, — продолжал Л. Н., — но что ваши родные? У вас есть матушка?
— Мать, как только услышала, что мне выходит дело, прямо сказала: ступай...
— Да, женщины всегда так говорят... Итак, мы с вами покончили, и я очень рад. Вы у нас заступите место m-r Neff’a5. Прекрасный человек, — прибавил он, взглянув на своего шурина Берса, которому m-r Neff, очевидно, был известен, — уехал теперь во Францию.
После я узнал, что моему предместнику была фамилия не Neff, а какая-то другая, что, замешанный в смуте после франко-прусской войны (он был коммунар), он бежал под ложным именем в Россию и что вернулся он во Францию, потому что в 1880 г. вышла амнистия. В 1885 г. он был уже в Тунисе, кажется, издавал там газету. Я видел даже присланную им его фотографию. Ученый багаж его был, кажется, невелик, но память по себе он оставил неплохую; его, видимо, любили, а Сергей называл живым и остроумным.
— Я на все ваши условия согласен, Лев Николаевич, но согласны ли будете вы на мои, граф? — спросил и я в свою очередь.
Он спросил, на какие. Я сказал, что мне надо две недели сроку, чтобы съездить на юг, что к 13 сентября буду у них в имении. Время тогда было тревожное; на юге тревожно было в особенности, и я, сам того не зная, заинтересовал графа еще более. Он было спросил, зачем, но я не сказал, потому что и ехал-то просто так, чтобы взглянуть на Крым. Предоставлялось место в 1000 рублей, и сделать это было возможно.
Граф согласился, сказал только, чтобы я телеграфировал с дороги, когда выслать за мной лошадей, и своим угловатым малоразборчивым почерком на каком-то подвернувшемся клочке написал адрес: Московско-Курской дороги станция Козловка-Засека, и я ушел.
С графом я говорил просто и смело, но на улице на меня нашло невольное раздумье. Как я буду жить у Толстых? Как буду дышать, есть, пить, разговаривать с таким великим человеком, каким мне представлялся Толстой? Я и был рад и вместе с тем чего-то робел.
Я, конечно, не мог еще знать, что по моем уходе Толстой сказал бывшим у него гостям: «Этот молодой человек мне нравится, но, вероятно, не долго поживет: у него, видимо, чахотка». Это он мне после сказал, но мне все же показалось немного удивительным, что он так скоро покончил дело с незнакомым и неизвестным человеком, который, сказать правду, не мог внушить с первого раза особенного доверия. Доверие его я объясняю только тем, что он заинтересовался мной: я несколько раздразнил его любопытство, его художественный аппетит.
В тот же день я уехал на юг. Пробыл в Севастополе две недели, жил у моего товарища Петра. Из Севастополя поехали мы с ним вдвоем — он в Москву, я в Ясную Поляну. Ехать было весело. На день мы остановились в Харькове, где я купил себе одежду, думая, что неловко явиться в графский дом в коротеньком пиджачке, какой носил я в Москве (его в Ясной Поляне Татьяна Львовна прозвала кофточкой). После оказалось напрасно: надобности не представлялось, а щеголять в длинном, модном английском сюртуке в деревне так, ни почему, казалось мне еще неловче, чем в «кофточке»... Из Харькова я телеграфировал о себе в Ясную Поляну.
только что отпили чай, но перед чаем пили все пиво, и под лавкой у нас звенели две пивные бутылки. Памятуя, что Тула близко, я пива от Мценска не пил... Двинулись мы из Сумарокова, проехали станции две. Вошел кондуктор проверять билеты, взял мой.
— Вы до Козловки? — спросил он, — а тут один господин спрашивал — вон они сидят там, в конце вагона — нет ли кого еще до Козловки.
Еще в Сумарокове, увидав господина с седой бородой, мне подумалось уж не Толстой ли это. Оказалось, что это он и есть.
— Иван Михайлович, — вдруг крикнул он мне, — вы здесь, а мы и не видим друг друга! Я пересяду к вам сейчас...
Я, слыша звон бутылок под лавкой, поскорей ответил:
— У нас, Лев Николаевич, не очень удобно: пили чай, так разлили; мокро на диване.
И пересел к нему.
Немудрено, что он попал в один со мною поезд, даже в один вагон, но помнится, я спрашивал, зачем он был в Сумарокове. Он ответил, что присмотреть имение... После об этом имении никогда и помину не было, оно точно кануло в воду.
Не помню, с чего начался разговор. Помню только, что он похвалил меня за аккуратность — приезжаю как раз в срок... Потом зашла речь о совершившемся недавно в Москве открытии памятника Пушкину, о знаменитой речи Достоевского6... «Ну, что ж, какое она на вас произвела впечатление?» — спросил он, но сам о ней ничего не сказал... Затем заговорили о профессорах. Я сказал, что я слушал Соловьева...
— Я по поводу одной своей работы перечитал его историю7, — сказал Л. Н. — Он, конечно, человек почтенный, но тупица...
О Владимире Соловьеве он сказал, что он был у них в Ясной Поляне, привез свою диссертацию, но что, по его мнению, философствовать в такие молодые годы рано, это можно делать только поживши. После я видел в Ясной Поляне и даже впервые прочел эту подаренную Соловьевым книгу с надписью: «Гр. Льву Николаевичу Толстому сей незрелый плод в ожидании лучшего»8.
Когда зашла речь о нигилистах, я откровенно ему сказал, что, по-моему, это люди, у которых на рубль амбиции и на грош амуниции. Он, кажется, и это готов был понять по-своему, но отнесся, как будто, недоверчиво. Я сказал, что кое-кого знаю из них, потому что между моими товарищами по гимназии были замешанные в процессе 193-х.
— У меня был товарищ, — сказал я, — он перешел из московской гимназии в орловскую, через него-то я и знаю, например, об учении «богочеловеков», о Маликове, который жил в Орле9.
— Маликова и я знаю, — сказал Л. Н., — он был в Ясной Поляне... У нас живет учителем некто Василий Иванович Алексеев10, прекрасный человек; он знакомый Маликову... Живет он у нас не один, а с женою Маликова, но мы все считаем ее за его жену...
Не помню, почему заговорили мы о музыке, и я начал изъявлять свой восторг перед Шопеном и Бетховеном. Он тоже сказал, что слышал недавно, как пела одна барышня и играл на скрипке один из их знакомых, молодой человек Нагорнов11, хвалил их, но — как я теперь понимаю — говорил это лишь затем, чтобы не обидеть противоречием незнакомого еще человека. Я ему сказал, что так обязан ему за то наслаждение, которое испытывал, читая его произведения.
— Что ж в этом? — отвечал он. — И певица где-нибудь в кафешантане поет и показывает ляжки. Что ж тут хорошего?
12.
— Перевести греческое λόγος — слово, это слишком церковно, — сказал он, — я перевожу разумение... Выходит, в основе было разумение, и разумение было вместо бога, и разумение-то — это то есть член русского языка — было бог...
Он даже прибавил, что член в русском языке он открыл, и как-то пропустил мимо ушей мое замечание, что член есть и в болгарском языке. Я плохо его понимал: мне было совсем неизвестно, чем он был занят. В то время в газетах прошли слухи, что он занят романом «Декабристы»13, и я недоумевал, почему он говорит о евангелии от Иоанна.
Разговор скоро у нас иссяк, и он заговорил с сидевшим на мешке мужиком об общинном владении.
Так мы доехали до Козловки. Я распрощался с Петром, который, провожая меня, вышел на тормоз.
— Так я остальной твой багаж завезу в Москве, — сказал он мне.
— Какой багаж? — спросил Л. Н.
— Грязное белье, Лев Николаевич, он завезет ко мне домой в Москву.
— Ничего, давайте сюда и белье, зачем везти в Москву!
И он схватил узел, в котором действительно было грязное белье, и когда ушел поезд со станции, мы перебрались на противоположную платформу, где Л. Н. ждала графиня с гувернанткой. Признаюсь, забота о моем грязном белье несколько меня удивила.
Граф отрекомендовал меня. Мы сели на катки14 и поехали по какой-то мудреной, как мне показалось тогда, дороге в Ясную Поляну.
В доме был огонь. Дети спали. На столе был ужин и чай. В зале было развешано много портретов. Я посмотрел и не мог воздержаться от мысли: «Вот они, графы-то!».
Явилась графиня, налила нам чаю. Речь зашла о классическом образовании. Помнится, я упомянул о Ричле15 как о гениальном ученом, которого, казалось мне, все должны знать. Л. Н. ответил: «Не знаю, не слыхал!» — но классическое образование защищал — и защищал, как могу теперь судить, только потому и таким тоном, что кто его знал, тот наверное и тогда бы сказал, что говорит он так лишь затем, чтобы не задеть как-нибудь незнакомого человека. Отпив чай, он проводил меня в назначенную мне комнату.
и Бетховеном, и благодарностью за то наслаждение, которое получил от его сочинений, — последнее-то уж хуже всего! Это было для него не ново, не интересно! Я был наивен, я не знал, что было и за меня кое-что — например, поездка моя на юг, откуда я вернулся не один, а с приятелем, на котором он успел заметить необычную в наших краях соломенную шляпу, узел с бельем, за который он так жадно ухватился... Графиня наверное взглянула на меня неблагосклонно.
Потушив лампу, я лег и долго не мог заснуть. Все думалось, что в доме такого великого человека мне не удержаться, что за мое умственное убожество, которое, как я был уверен, я выказал в разговорах с графом в вагоне и дома за чаем, меня завтра же прогонят. Усталость взяла, однако, свое, и я заснул.
Проснулся я рано. В доме встала только прислуга. Была середина сентября, но погода стояла ясная, сухая. Я вышел в цветник, где отцветали левкои и мак, потом в парк, аллеи которого уже покрылись желтою стланью опавших листьев. Гулял я часа два и потом присел у крокета на скамейку. Утренняя хлопотня стала сильнее: из дома в людскую и обратно ходили лакеи, мужики, бабы. Из дома вышел и Илюша, мой будущий ученик, о котором отец мне сказал еще в первое наше свидание, что он все бегает на кухню. Мы познакомились и пошли наверх пить чай — в знакомое мне зало. Там, оказалось, уже находился мой будущий соучитель Василий Иванович Алексеев и два других моих ученика — Сережа и Леля. Когда упомянул Л. Н. в вагоне о Василии Ивановиче, я почему-то вообразил его изящным, щегольски одетым человеком, но в зале увидел совсем другое: небольшой, худощавый, с редкой клинообразной бородкой, белокурый, он мало имел в себе изящного и, несмотря на блузу, был скорее похож на послушника из монастыря...
Пока мы пили чай, стали появляться какие-то девицы в белых платьях. Я думал, что это все гувернантки — после оказалось, что в числе их была Татьяна Львовна. Чувствовалось крайне натянуто и неловко. Я торопился допить свой чай и пригласил Василия Ивановича пойти погулять ‹...›
Между тем встал и сам Л. Н. Он справился, где я. Мы как раз в это время пришли домой. Помнится, он пригласил меня в кабинет, куда я вошел чуть не с благоговейным трепетом, и заговорил о своей работе... Как все мне было ново и чуждо!
В то же утро Василий Иванович попробовал было позаняться с Илюшей из алгебры. Проба была неудачна: ученик не стал заниматься, учитель рассердился, обозвал его негодяем и ушел. Вскоре явился из кабинета Л. Н., сказал, что надо бы начинать заниматься с понедельника (я прибыл в ночь с пятницы на субботу), что Илюша вероятно ничего не знает, и под видом спрашиванья Илюши начал экзаменовать меня... Надо было с русского перевести на греческий фразу со словом меч. Я перевел меч — μάχαιρα — (да оно так и следовало, ибо и фраза-то была для упражнения в первом склонении), Л. Н. заметил, что меч по-гречески ξίφος... Было не очень приятно, хотя чувство благоговения и заглушило мелькнувшее во мне на мгновение неприятное чувство.
В тот же день за обедом (я был приятно изумлен, что обед такой обильный и хороший) Л. Н. рассказал мне, что у них живет некто Александр Петрович16, который переписывает его сочинения, даже сам пишет стихи.
— Кто же он такой? — спросил я.
— Так, ходит всюду, поживет где месяц, где два... Пришел нынешним летом сюда и живет теперь у нас. И как странно вышло: пришел он с купанья; у него спрашивают паспорт... Говорит, что паспорт он оставил на берегу, где купался... Мы уж думали, что у него и паспорта нет. Нет, оказалось — есть: сходил, вернулся и принес...
В сочинениях Л. Н. упоминает про этого Александра Петровича. После узнал его хорошо и я.
Вечером, когда стало совсем темно, Л. Н. повел меня в кабинет и начал показывать свой перевод и толкование Евангелия от Иоанна, самое начало: «В основе было разумение, и разумение было насупротив или вместо бога, и разумение-то было бог...
Он, помнится, опять говорил мне неодобрительно о церковном толковании и переводе и спросил:
— Вас это не затрагивает с религиозной стороны?
— Нет, я и по-французски-то учился по книге Ренана...
Я был тогда совершенно равнодушен к религии, даже больше... все мне было в его работе ново, малопонятно, но мне нравилось, что тут, в кабинете графа, священные книги явились для меня не каким-нибудь сухим, скучным сборником подлежащей отмене чепухи (гимназия глубоко вкоренила в нас отвращение к ним), а источником живой глубокой истины, выраженной тонким философским языком, который иногда так неуклюж и груб в латинском и даже, пожалуй, немецком, лютеровом переводе. Мне нравилось, что под словом «логос» я не принуждаюсь разуметь второе лицо святой троицы, а понималось «разумение, разум». Мне нравилось, что εγένετο, γέγονεν2* переводятся не как-нибудь грубо factae sunt или gemacht, а имеют негрубый, тонкий философский смысл. Помню, когда Л. Н. заставил (уж не экзаменуя, а беседуя как равный с равным) меня перевести место: бога нигде никто не видел, — в какой пришел он восторг, когда я Perfectum εώρακεν в простоте души перевел, как нас учили: не видел и теперь не видит!
— Как это хорошо, — воскликнул он, — это-то мне и нужно!
Я, конечно, еще не знал, что и зачем это-то ему нужно.
шутливо-бранчливые отношения, даже с досадою мне сказала: «Что-то уж больно вас папа̀ расхваливает!». Суть была в том, что он сам знал мало по-гречески17 (вероятно столько же, сколько впоследствии по-еврейски18 и по-китайски19), и большим при его способности увлекаться показалось ему то, что было очень обыкновенных размеров ‹...›
III
..................,......3*
IV
Так прошел мой первый день в Ясной Поляне. Я познакомился почти со всеми обитателями, графиня даже любезно заметила, что считает меня членом семейства, но я все-таки чувствовал себя неловко. Не знаю, эта неловкость не оставляла меня никогда, как ни близко, по-видимому, я сошелся впоследствии с семейством Л. Н. Нельзя объяснить этого даже разницей в общественном положении — в семействе брата его Сергея Николаевича чувствовалось свободнее.
Потом дни потекли заведенным порядком. Василий Иванович составил расписание. Ввиду того, что мне надо было писать кандидатское рассуждение, уроки мои назначены были после завтрака. Вставал я к 9 часам, мои ученики несколько раньше. Кофе доставался поэтому мне холодный, а то и совсем не доставался — я пил чай или молоко... Затем начиналось вставание в высшей сфере: часам к 10—11 сходил Л. Н. вниз, в кабинет, одеваться. К этому времени в передней обыкновенно уже набирался разного рода люд: кто попросить леску, кто совета, кто деньжонок... Часто являлись и просто незнакомые люди с разных сторон: кто идя в Киев на богомолье, кто возвращаясь домой из Иерусалима; иной благородного звания человек даже предъявлял свой вид, говорил, что по расстроенным обстоятельствам идет из Петербурга в Одессу, где якобы предвидится заработок, и заходил, между прочим, в Ярославль, где, как ему сообщали, имелось в виду одно место, но ничего не вышло... Каких, каких только людей у графа не перебывало! Он беседовал с каждым, старался — надо отдать ему справедливость — удовлетворить, по возможности, каждого. Когда у него не хватало денег, он частенько прибегал ко мне в комнату, просил взаймы у меня.
Управившись с этим народом, он шел или пить кофе с графиней, которая в это время успевала уже встать, или ненадолго гулять и пил кофе после прогулки. Тут обыкновенно происходило утреннее свидание детей с родителями. Разговоры за кофе были или пустячные, или чаще обычные, про то, что занимало самого Л. Н. Поднимались споры — графиня противоречила, он возражал... Затем он брал чашку чая и уходил в кабинет работать.
В 12 часов мы с детьми завтракали, а затем до двух часов время проводилось, как кто хотел: кто шел на охоту, кто гулять в парк, в лес, зимой кататься на коньках.
С двух часов начинались мои занятия ‹...›
Часа в три, в четыре, занимаясь с детьми, бывало слышишь, как хлопнет в передней дверь... Это Л. Н., кончив писать, шел на предобеденную прогулку. Ходил он сначала с ружьем, на случай, если попадет дичь, но не помню, чтобы что приносил. Видимо, под влиянием его новых воззрений у него пропадала любовь к охоте... Раз, например, он приходит с прогулки и говорит, что видел рябчика... Но рябчик сидел так близко, что совестно было стрелять...
Потом он уж и совсем перестал брать ружье, ходил так...
В 5 часов звонили к обеду.
Приехал я заморенным, худым (тем более, что летом сильно прихворнул), а через год благодаря житью в прекрасной усадьбе, на хороших харчах, когда явился в Москву, — «Ишь как тебя граф-то раскормил», — заметила двоюродная сестра, с которой я долго не видался... Да и сам Л. Н., в августе пророчивший мне скорую смерть от чахотки, в ноябре уже говорил смеясь: «Да вы — крепыш: вас долбней не убьешь!».
После обеда еще позаняться приходилось час или два, а затем дети пили чай и расходились спать. Часов около девяти пили чай взрослые. Это время я очень любил: оно было самое интересное. Приходил Л. Н., рассказывал, что он делал, что написал, кого видел, встретил. Начинались разговоры, чего-чего я только не переслушал! Раз он был, например, в Туле, вернулся только уже после обеда. Дети кончили чай. Он приходит в залу и говорит: «Илюша, Таня, идите сюда, слушайте чудеса!». Был тут и я... И он рассказал, как из тульского тюремного замка совершил смелый, трудный побег арестант Яков Федоров... Надо было послушать этот живописный, энергический, точно выкованный рассказ — было нечто удивительное! Жалею, что я не догадался тогда записать: даже в не совершенно точной записи, наверное, многое бы от него осталось... Ложились мы довольно поздно — к часу, а то и позднее ‹...›
В среде Толстых мало было семейственности, того живого, непрерывного общения детей и родителей, без которых как-то трудно представить настоящую семью, — это я заметил довольно скоро. В самом деле, утром дети пили кофе и чай с бонной, гувернанткой, гувернером, затем садились учиться, родители в это время спали. К 12 часам родители начинали пить кофе, дети с бонной, гувернанткой, гувернером завтракали, а утреннее свидание их с родителями ограничивалось поцелуями. После завтрака маленькие дети, правда, гуляли, ездили кататься и бывали с матерью, но далеко не всегда, а отца в это время было не видно: он уходил писать. Казалось, единящим звеном до известной степени мог быть обед, но и это только казалось, потому что то отец опаздывал, то Илюша не приходил вовсе, а маленькие дети, или — как выражалась графиня — малыши, обедали отдельно...
На образование детей Толстые не жалели средств: нам двоим платили 2000 р., гувернантке 900 р., да бонне-англичанке рублей 300; кроме того, из Тулы приезжали каждую неделю учитель музыки, да учитель рисования.
Но лично отец с матерью на детей обращали мало внимания. Это мне показалось особенно странно во Л. Н., который далеко не бесследно прошел в истории русской народной школы...
Эта странность, конечно, не сразу же бросилась в глаза — на первых порах мне все было так ново, все возбуждало только восторг и восхищение...
Если бы на философской бирже котировать то, что было в моей голове тогда, когда я кончил университет, то ценного оказалось бы очень и очень мало — так что-то вроде чего-то, какая-то плохенькая смесь с закваской не то гегельянства, не то дарвинизма. Лев Николаевич, конечно, это видел... По утрам, сойдя в кабинет одеваться, он часто призывал туда и меня. Помню, например, раз он завел речь о Дарвине и его теории. Я говорю — это значит, что он начал вытряхивать из меня все, что можно было вытряхнуть. Он дал мне понять, что для вопросов нравственных теория эта имеет мало значения, не имеет даже никакого, потому что прогресс возможен только во внешней жизни, а во внутренней его нет и быть не может.
Я хоть и далеко не всегда соглашался с ним, но каждому его слову внимал чуть не с благоговением. Ни один обед, ни один чай, ни одна беседа для меня даром не проходила. Он каждый раз высказывал что-нибудь новое, интересное, или даже на известное умел взглянуть иногда с точки зрения, о которой я и не подозревал. Право, он, сам того не замечая, точно открывал передо мной новый умственный мир... Хорошего было здесь то, что я принялся учиться, как редко учился. Я слушал в университете лекции по немецкой философии, но «Критику чистого разума» впервые увидал в Ясной Поляне и начал ее штудировать во французском переводе. Тогда только что вышел Шопенгауэров «Мир как воля и представление» в переводе Фета, и Страхов, конечно, его прислал...20
— Прочитайте Шопенгауэра, — сказал мне Л. Н., давно с ним знакомый, — это вам прибавит много крови!
Я стал читать, и невольно мне вспомнилось, как назад тому несколько месяцев я отвечал на экзамене по философии именно о Шопенгауэре, получил пятерку, и только теперь понял, что, кроме имени Шопенгауэра, я в его философии в сущности не знал ничего. Немало перечитал я и других книг: «Кризис западной философии» Соловьева, «История политических учений» и «Наука и религия» Чичерина21, не говоря о многих сочинениях, касающихся истории раскола, христианства, Библии: например, Щапова, Ренана, Рейса...22 Как вообще тускло стало казаться мне то, что слышал я в университете! Как бывало неприятно, когда слова Л. Н. тонули в заурядной болтовне его жены, детей, гостей! С какой досадой смотрел я на детей, которые словно и знать не хотели, что их отец, Л. Н. Толстой — неоценимый писатель, честь и слава Русской земли, и как отрадно было мне слышать раз за обедом, когда Л. Н., очевидно довольный мною, сказал мне:
— Вы как раз по нас!
С Василием Ивановичем у нас только и разговора было, что про него. Я, например, слышал от него, будто покойный государь Александр Николаевич, проезжая в Ливадию, хотел видеться с графом, и о желании его было дано знать в Ясную Поляну... Поезд подъезжает, останавливается, стоит — графа нет. Поезд будто бы постоял, постоял да так ни с чем и отправился дальше в Ливадию. Трудно представить, чтобы свидание должно было произойти именно так, как рассказывалось, и чтобы граф оказался так ненужно невежлив23.
Верил сам Василий Иваныч рассказу или передавал просто так, по известного рода привычке, я не знаю, но, к чести своей, должен прибавить, что далеко не это пленяло меня в Л. Н., далеко не за это я любил и люблю его. Я любил и люблю его за ту атмосферу свежести и бодрости, пытливости и искания, которую всегда он приносил с собою. С радостью, бывало, уезжаешь от Толстых, где, повторяю, меня никогда не покидало чувство неловкости, стеснения, — и что ж? На другой же день начинаешь замечать, что чего-то недостает, сам сознаешь, что недостает-то именно этой толстовской атмосферы. Я любил и люблю Л. Н. за многое, и он это чувствовал, раз даже выразил это постороннему лицу — В. Ф. Орлову24:
— Я знаю, Иван Михалыч любит меня робко, стыдливо!
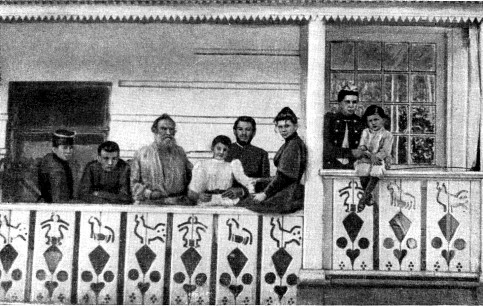
ТОЛСТОЙ В КРУГУ СЕМЬИ
Фотография. Ясная Поляна, 1892 г.
Музей Толстого, Москва
Гимназия и университет вытравили из меня всякое религиозное чувство. Проезжая из Крыма в Ясную Поляну, я не шутя думал, что главнейшая цель жизни — пожить получше, или, как я выразился своему товарищу Петру, над чем он смеялся, сорвать розу в январе. Я омертвел душой, и если хоть несколько ожил, этим я обязан только Л. Н. и никому больше, несмотря ни на какие его заблуждения и ошибки, несмотря на то, что толстовцем отнюдь назвать себя не могу и никогда им не был; Л. Н. раз мне даже сам сказал и справедливо, что я к его воззрениям изъявляю лишь «холодное сочувствие». Нам и в гимназии и в университете говорили о народной словесности, но... но вот перед собой я увидел человека, нет — великого писателя, который действительно любил ее, действительно умел ценить краткость, меткость, простоту народной речи, а — главное — умел этой речью пользоваться. Вслед за ним и я в своем маленьком ничтожном деле, при писании кандидатской диссертации, старался по возможности избегать искусственности, вычурности литературного языка, и сколько раз при переводе Апулеевой сказки об Амуре и Психее слова и обороты простого разговорного, даже мужицкого языка облегчали и выручали меня!..
«История русского языка и литературы только в том и состоит, что писатели откидывали все искусственное, наносное, условное и приближались к безыскусственному и простому, — сказал он мне однажды, когда зашла речь о русском языке. — После Ломоносова в этом отношении сделал шаг вперед Карамзин, после Карамзина — Пушкин».
Мысль, конечно, не новая, но выразил ли ее кто другой так коротко, так ясно и просто?
Да, я многим был обязан Л. Н., я любил и люблю его, но, несмотря на это, в нем было и нечто такое, что не могло меня не тяготить. Покойный В. Ф. Орлов говорил мне, что он на своем веку знал трех сыщиков, сыщиков по духу, по натуре, — это приятель его Сергей Нечаев, затем настоятель нового Афона о. Иерон и... Л. Толстой. Я не знал ни Нечаева, ни о. Иерона, но о Толстом, хоть это сказано, может быть, и чересчур сильно, а все же правда тут есть. Он был до крайности и любознателен и любопытен. Вернее сказать, он обладал неутолимым художественным аппетитом. Он вечно инстинктивно высматривал пищу для творчества, вечно искал и находил интересных людей: изучит, проглотит одного, смотришь — на смену ему есть уж другой. По-моему, это была в нем основная черта. Хорошо знала о ней и графиня. Когда семья переехала в Москву, она раз мне сказала, что для Л. Н. люди интересны на стороне, им он помогает, их любит...
«— А что вокруг него, то ему неинтересно. Люди в Ржановом доме ему интересны, а вот мальчишка у нас на дворе такой же, как и в Ржановом доме25— оттого, что он здесь, у нас на дворе...»
Интересных людей у него было, конечно, бессчетное множество, ряд их не прерывался.
Ему очень хотелось знать, зачем я ездил в южную Россию. Время тогда было тревожное, и он вначале, кажется, подозревал, не социалист ли я, не член ли какого-нибудь революционного комитета. Я уже говорил, как жадно он ухватился за мой саквояж с грязным бельем: наверное он думал, что не только саквояж, но и голова моя полным полна динамита. Признаюсь, несмотря на все мое к нему благоговение, он вначале досаждал-таки мне сильно. После вечернего чая иногда, бывало, хочется посидеть одному, что-нибудь почитать — приходит он, садится, начинает выспрашивать... Как москвич, никогда долго не живший в деревне, я по временам скучал, особенно вечером, когда нечего было делать. И ходишь, бывало, по привычке, как маятник, из угла в угол, думаешь про Москву... Лев Николаевич заметил мое хождение — пошли расспросы, о чем я думаю... А то иногда сидишь вечером, читаешь или пишешь что-нибудь, — вдруг чьи-то быстрые, быстрые шаги чуть слышно направляются в коридоре к моей комнате, отворяется дверь — на пороге Л. Н. с любезной улыбкой:
— А я хотел застать вас врасплох!
Это заставило меня быть всегда настороже. Читаешь ли, пишешь ли что, все бывало думаешь: а ну он придет? И заранее приготовишься при малейших признаках появления замести все следы, спрятать все во мгновение ока и сделать вид, что сидишь сложа руки.
Помню, с какой осторожностью я читал «Анну Каренину». Мне вообще не хотелось, чтобы он знал, что́ я читаю: пойдут разговоры, расспросы, а что касается собственно его-то романа... Раз он мне именно об «Анне Карениной» сказал с недовольным видом:
— Да, я описывал, как барыня влюбилась в офицера.
А в другой раз, по поводу, помнится, также «Анны Карениной», когда графиня заметила: «Ведь ты теперь считаешься первым», — он с раздражением ответил:
— Ах, оставь, матушка, пожалуйста, — до сих пор я только белиберду писал!
Так я говорю, что касается собственно его-то романа, то предосторожность-то моя не излишня была, хотя бы из деликатности. Сочинений своих он, кажется, никогда не перечитывал, а Василий Иванович передавал, что граф ему раз прямо сказал, что перечитывать их ему противно... Как-то странно было читать роман рядом с той же комнатой, где в это время сидел тот самый человек, который написал его — даже почему-то с трудом верилось, что это он написал!..
Приглядевшись поближе, Л. Н. скоро увидел, что революционного во мне ничего нет, взамен того он нашел во мне большое сходство со своим знакомым — Н. Н. Страховым и раз за обедом прямо мне это высказал и прибавил, что по всей вероятности я буду ученым, литератором. Я сказал, что очень этому был бы рад. Он ответил, что быть ученым в университетском смысле хорошего мало, и он думает, что я буду ученым иного характера... Я вспомнил свои горевания по окончании университета, теперь выходило, что горевать не о чем: я слышу не комплимент, а разом два — и почувствовал себя на верху блаженства! Но спустя несколько времени пришлось разочароваться: Л. Н. хоть и уважал и любил Страхова, но, имея в виду, что он не умеет энергично в спорах с ним отстаивать свои мнения, мне же заметил:
— Страхов, как трухлявое дерево: ткнешь палкой, думаешь, будет упорка, ан нет, она насквозь проскочила!
Весь конец 1880 и начало 1881 г. Л. Н. занимался разработкой Евангелия. Греческому языку он учился чуть ли не у какого-то семинариста, который иногда плел, по его словам, черт знает что...
Должно быть, у него существовали какие-то отношения и к тульским классикам — по крайней мере об одном из них, кажется, о Гайчмане, он был невысокого мнения: «Он знает из Платона „Апологию“ или „Критона“, а разверни какой-нибудь диалог еще тут, смотришь, он ни тпру, ни ну!?»
Как бы то ни было, Л. Н. мало знал по-гречески и некоторое участие в своей работе заставлял принимать и меня. Общительность у него была удивительная: о своей работе он постоянно говорил, взглядов и результатов не скрывал. Я знал кое-кого из пишущей братии — о, как те на него были непохожи! Те, бывало, боятся, что их подслушают и украдут, что они отыскали, подозрительно озирались, словом, доходили до комизма — настоящие толстовские антиподы...
Утром, призвав меня в кабинет, он часто показывал мне то, что удалось написать еще накануне.
С самого первого раза мне показалось, что, начиная работать над Евангелием, Л. Н. уже имел определенное заглавие (я еще не успел узнать, что они изложены были в двух его рукописных сочинениях — в разборе Макариева «Богословия» и в трактате «Государство и церковь»26). Научная филологическая точка зрения, если и не была вполне чужда ему, то во всяком случае оставалась на втором, даже на третьем плане... Помню, я как-то встретил проф. Иванова27 и разговорился про толстовский перевод «Учения двенадцати апостолов»28.
— Это перевод удивительный в смысле отдаленности от подлинника, — сказал мне Иванов. — Это не перевод, а скорее перифраз — филологу поэтому нечего с ним и делать: как будешь его критиковать, как его учтешь? В переводе учесть можно, но в перифразе нельзя.
— С этим можно не только согласиться, но прибавить, что таковы же толстовские переводы и из Евангелия. Историческую, чудесную, легендарную сторону в Евангелии, как известно, он совершенно устранил, считал неважной, ненужной.
«Какой интерес знать, что Христос ходил на двор? — говорил он. — Какое мне дело, что он воскрес? Воскрес — ну и господь с ним! Для меня важен вопрос, что мне делать, как мне жить?»
Он очень не жаловал Ренана, да, кажется, и Штрауса за то, что они обращали свое внимание именно на фактическую сторону в Новом завете. Ренана он не любил еще и за то, что от «Vie de Jésus» отдавало будто бы парижским бульваром, за то, что Ренан называл Христа promeneur и charmant docteur4*29, за то, что в переводах его из Евангелия все «так гладко, что не верится, что и в подлинниках так»...
Он имел в виду только нравственную, этическую сторону, но и в этом отношении был крут: Евангелие должно было лишь подтвердить уже составленные взгляды, иначе Л. Н. не церемонился и с текстом. При всем моем благоговении к нему, я с первого же шага почувствовал натяжку30. Иногда он прибегал из кабинета с греческим Евангелием ко мне, просил перевести то или другое место. Я переводил, и в большинстве случаев выходило согласно с общепринятым церковным переводом. «А вот такой-то и такой-то смысл придать этому нельзя?» — спрашивал он и говорил, как хотелось бы ему, чтоб было... И я рылся по лексиконам, справлялся, чтобы только угодить ему, неподражаемому Л. Н. ...
Большая часть работы по Евангелию прошла на моих глазах; нередко мне приходилось перечитывать написанное сейчас же, как только он оканчивал. Как рад он был, если что скажешь насчет его работы, особенно если не согласишься с ним (несогласие он относил насчет того, что я бессознательно проникнут церковностью)! Он весь превращался в слух, так и впивался в тебя... Иное дело, если кто начинал оспаривать его взгляды в корне, в основе, тут не обходилось без крика, и громче всех кричал Л. Н.
Несимпатичная сторона в Новом завете состоит, по-моему, в темноте и проблематичности очень многих и несомненно важных мест... Одно из них, трудное и для перевода и для толкования, представляет начало Евангелия от Иоанна, над которым Л. Н. трудился немало. Общепринятое толкование церкви то, что тут говорится о временах первобытных, временах, так сказать, библейского золотого века, когда между божеством и людьми могли еще существовать непосредственные отношения. Все это было когда-то в прошлом...
Льву Николаевичу претил церковный взгляд, он хотел понять это место не исторически. В личного бога он не верил, а в «логосе» — «слове», или, как перевел он, «разумении» — он видел этико-метафизическую сущность человека. Εν αρχη5* он понимал в смысле не времени, а сущности, основы... Но как понять редкое сочетание προς τον θεον?6* По лексиконам он знал, что в Евангелии Матфея есть место: η αξινη προς την ριζαν των δενδρον κειται!7* (III, 10), где выражение προς την ριζαν удовлетворительно переводится при корне. У Матфея это понятно, но что значит: слово или разумение было при боге? Переводчики спокон веков изворачивались кто как умел: в Вульгате стоит apud Deum8*, у Лютера bei Gott, в Остромировом евангелии: «Искони бе слово, и слово бе от бога, и бог бе слово, се бе искони у бога»; в теперешнем церковнославянском тексте: «слово бе к богу...» Лучше всего передано, по-моему, в последнем переводе по-славянски — по крайней мере хоть непонятность-то в нем не закрашена. Лев Николаевич в лексиконах нашел для προς значение не только при, но и против, или, употребляя народную форму, насупротив... Это насупротив, пожалуй, уж недалеко и от , особенно если понатянуть... И логос-слово, и бог, по толкованию церкви, сливаются одно с другим, у Л. Н. логос-разумение — становится вместо бога, устраняет его... παντα δι αντον εγενετο9* и пр. по церковному толкованию значит, что все произошло через логос-слово, или — как великолепно выразился Филарет — бог словом своим изрек мир к бытию, но как понял это Л. Н.? Сколько помню, да и едва ли ошибаюсь, он привлек на помощь метафизику немецкого идеализма: все произошло через разумение — это значит, что этико-метафизическая сущность, или разумение создали из себя мир в формах пространства и времени — Иоанн Богослов и автор «Критики чистого разума» подают, таким образом, друг другу руки! Но как понять: εν αντω ζοη ην10* — в нем жизнь была? А это значит: во власти его жизнь была... Перевод всего этого места я привел выше. Разыскав по словарям, что в позднейшем греческом языке ειναι — быть — иногда равносильно γίγνεσ θαι — становиться, он после поправил это место так: «В основе стало разумение, и разумение стало насупротив, или вместо бога, и разумение-то стало бог. Оно стало в основу вместо бога. Все через него произошло, и помимо него не произошло ничего, что живет. Во власти его жизнь стала, и жизнь эта стала свет людям, и свет во тьме является, и тьма его не охватывает».
Что γέγονε из произошло он переправил в живет, это для меня понятно, но почему аорист κατέλαβεν11* он перевел временем настоящим: «охватывает»? Я не раз ему указывал, что в этом именно месте передать греческий аорист по-русски временем настоящим, по-моему, — натяжка, мало того — неверность. Но настоящее ему было, очевидно, необходимо, и он, выслушав меня внимательно, все же оставлял, как было.
Стихи 12-й и 13-й он перевел 31: «всем тем, которые поняли его, оно (разумение) дало возможность сынами божьими сделаться по вере в значение (ονομα12*) его, которые не от кровей, не от похоти плотской, не от похоти мужской, а от бога были зачаты». Он показал мне свой перевод — мне пришло в голову перевести в его же духе, но так: «а кто его принял, всем тем оно дало возможность стать чадами божиими — веровавшими в его значение, потому что они не от кровей, не от похоти плотской, не от похоти мужской, но от бога были зачаты». Я перевел так, да, признаться, и позабыл о переводе.
После завтрака я ходил обыкновенно во флигель к Василию Ивановичу пить чай. Приходим оттуда, не успели войти в переднюю, смотрю — из кабинета выбегает Л. Н., останавливает нас и начинает говорить, что теперь перевод так точен, что уясняет ему дело еще больше.
— Это такая точность — никакому Страхову не уступит, — говорил он.
«Страхову не уступит» — это уж, казалось, высшая степень похвалы, и я, не успев вслушаться, подумал, что она относится к Иоанну Богослову, который умел все так точно написать, как Страхов. Оказалось — нет: за приведенный выше перевод он хвалил меня. Мало того, тут же, при Василии Ивановиче, он стал приглашать меня к совместной работе, обещать плату с листа... Он увлекался, очевидно...
Я сказал, что от работы не прочь, но что же говорить о плате, ничего не видя?..
После, и стараясь сделать что-нибудь для него, я не раз спрашивал, что именно надо, но ни разу не слыхал никаких указаний. Одно, два выражения или слова в переводе ему понравились, пришлись кстати, и вот этого было довольно, чтобы его горячая натура вся вспыхнула мыслью о совместной работе. Помнится, впрочем, что к Рождеству я успел кое-что сделать, но едва ли он что-нибудь извлек из моей работы.
Не менее, чем над этим местом в Евангелии Иоанна, затруднялся и трудился Л. Н. и над беседой с Никодимом. До этого времени я никогда не только не вникал, но и не думал об этой беседе. Когда занимался ею Л. Н., занялся и я и подивился ее непонятности... Прошло тому уже четверть века, и, перечитывая ее снова, вижу, что впечатление то же...32 ανωθεν — но что значит родиться свыше? Дальше как будто пояснено: «если кто не родится от воды и духа». От какой воды, от какого духа? Непонятное объяснено столь же непонятно! Далее говорится, что никто не всходил на небо, кроме как сошедший с неба сын человеческий, что как Моисей вознес змию в пустыне, так надо быть вознесену сыну человеческому... Не хочется даже выписывать дальше — так все и теперь темно, странно, загадочно, выражения все такие, как будто их нарочно выбирают с тем, чтобы что-то неясное, хоть может быть и высокое (высокое все же чуется) затемнить, сделать совсем непонятным... Церковь видела здесь указание на крещение водою, на свидетельство Христа о самом себе, о своем божественном посланничестве, на пророчество о том, что ему придется пострадать на кресте, и стать искупительной жертвой за человеческий род, даже на последний суд при втором пришествии...
Для Л. Н. толкования церкви, само собою разумеется, не были убедительны. Он давал свои... Εαν μητις γεννεδη εξ υδατος και πνευματος13* — родится от духа — с этим еще справиться можно, но родится от воды?
Что это значит? Разыскав по лексиконам, что υδωρ в книгах Нового завета иногда значит jede Flüssigkeit des menschlichen Körpers14*, предполагал понять это слово в смысле малафьи33. Много ли выиграло понимание этого места — предоставляю судить другим... «Как Моисей вознес змию». Лев Николаевич здесь, конечно, не видел ничего пророческого и понял в смысле нравственном: так надлежит быть вознесену и сыну человеческому — слова эти он понял не в смысле намека или пророчества о крестном страдании, а в том, что логосу, или разумению, принадлежит руководящее значение для человека...
Все свои заметки, все переводы, словом, все, что ни удавалось ему написать, он, бывало, показывал мне тотчас же. Сожалею, что не имел в то время привычки записывать — нашлось бы, пожалуй, немало интересного. Помню, раз призвал он меня утром в кабинет и с восторгом начал по черновой рукописи читать толкование к искушению Христа в пустыне.
— Я после этого нашел и для себя самого смысл жить! — сказал он мне в заключение.
Много трудился он над выражением, которое он хотел передать: как свободу имеющий... А то один раз прибегает он ко мне в комнату из кабинета и указывает то место в главе Матфея, где говорится о том, как Христос чудесным образом уплатил подати сборщикам.
— А вот так это место понять нельзя? — спросил он и перевел: «пойди, закинь уду, поймай рыбу, и раскрыв рот, т. е. закричав, продай ее на рынке и вырученные деньги отдай сборщикам»34. Я после нашел, что ανοιξας το στομα15* действительно может значить «закричав», но недоумевал, зачем ему нужно а̀ la Штраус или Ренан счищать чудесный налет с этого места — ведь чудесную же сторону он отвергал в Евангелии совершенно, мало того — знать ее не хотел, игнорировал.
Мне не раз приходилось быть свидетелем того, что называется муками рождения произведений. Иногда у Л. Н. не выходило. «Я это знаю, — говорил он, — не выходит — уж лучше бросить, оставить на время». И он в таком случае бросал, приказывал оседлать лошадь и уезжал. Зато, если выходило, он являлся из кабинета веселый, сияющий. Помню, объяснение к притче о сеятеле ему ужасно как нравилось. «Одно слово — игрушечка!» — говорил он и Василию Ивановичу.
Общителен он был необыкновенно не с одним со мною. Я вначале чувствовал недоумение, не понимал... Потом я стал чувствовать натяжки, хотя к церковному толкованию и переводу был совершенно равнодушен... Во всяком случае уважение мое было безгранично. Семья относилась — как относилась семья? Графиня больше не соглашалась, бывало постоянно спорила, хотя уважение к тому, с чем она не соглашалась, было и в ней, против чего она спорила... Лев, сын, был еще мал. Илья (хотя отец и любил его, по-видимому, больше других, потому что он-де на меня похож) — Илья был слишком занят охотой и беганьем на кухню, да он и по природе был не таков, чтобы интересоваться «разумением» жизни, а Сергей — этот прямо объявил:
— Разумение — это просто чепуха35.
V
Жизнь в Ясной Поляне разнообразилась приездом гостей. Помню, что первым, известным мне уже по журналам гостем, был Стасов. Он заранее прислал телеграмму, что приедет тогда-то, и мне было любопытно взглянуть на человека, имя которого мне уже давно было известно по журналам. В доме стали его ожидать; Л. Н. за обедом сказал даже, что будет просить его не сообщать ничего печатно о своем пребывании в Ясной. — «А то он примется, пожалуй, описывать, как мы живем — пьем, едим, обедаем», — напрасные слова, в «Историческом вестнике», появилось сообщение Стасова36. Он приехал ночью. На другой день, когда мы сели завтракать, в залу быстро вошел длинный большой господин и неожиданно спросил меня:
— Это вы играли вальс в шесть восьмых?
как мужики шагают по глубокому снегу — ему пришло это в голову при виде действительно шагавших по снежным сугробам мужиков. Лев Николаевич, помню, это очень одобрил16*. Вечером в кабинете он читал Стасову свои объяснения на Евангелие. Лежа в постели, я слышал громкий их спор, вероятно, по поводу этих разъяснений... Стасов, кажется, приезжал, между прочим, с тем, чтобы выпросить каких-нибудь рукописей для петербургской Публичной библиотеки. Графиня согласилась дать рукопись «Военных рассказов», только Стасов по своей безалаберности, уезжая, забыл ее, так она и осталась в Ясной. Графиня рассказывала после, что взамен ее она послала Стасову деревенской пастилы38.
Другой гость, постоянный, приезжавший каждую субботу, был кн. Урусов, тульский вице-губернатор. Впрочем, в сентябре и, кажется, далее он не появлялся в Ясной Поляне, потому что ездил за границу. Это был, правда, немолодой уже, но внешне безукоризненный человек, с манерами и говором аристократа. Жена его пребывала с дочерьми в Париже, потому что — как он раз мне сказал — там климат лучше, вернее, кажется, он жил с нею не в ладу. Это был ярый поклонник и последователь Л. Н., но его поклонением и последованием Л. Н. иногда тяготился. «Для меня он составляет большое обременение», — раз он сказал при всех... Но князь этого не замечал, да, признаться, и заметить было трудно, потому что в его присутствии Л. Н. недовольства и виду не показывал, а графиня — так та была к нему всегда очень любезна. Приезжал он обыкновенно в субботу к обеду, беседовал, благоговейно слушал Л. Н., ходил с ним на прогулки. Помню, как-то около Крещенья, в одну из суббот, была сильная метель, и около Ясной Поляны замерз какой-то человек (о нем, впрочем, писал Сергей Петров Гарбузов39). Об этом стало нам известно только на утро в воскресенье. Лев Николаевич велел заложить лошадь, и мы с Сережей поехали за замерзшим. Он действительно лежал у дороги, близ занесенной снегом кучи щебня или песку. Мы привезли его в деревню, внесли в пустую, холодную избу. Пришел Л. Н., начал с Сережей оттирать, пришел Урусов и тоже оттирал... Я не оттирал, я не мог побороть неприятного чувства, но Урусов поборол — поборол ли бы он, если бы не пример Л. Н.?
Лев Николаевич, занимаясь Евангелием, и между писателями предпочитал таких, которые учили, как жить... Урусов в Париже, кажется, несколько позабыл яснополянские заветы, увлекся спиритизмом и привез Л. Н. «L’Evangile spirite»17*. Помню, Л. Н. сильно критиковал эту книгу, упирал на то, что она кроме известного да пустяков не дает ничего... Мы с Василием Ивановичем накинулись тоже... Урусов сконфуженно молчал, не пытаясь даже оправдаться ‹...›
Реже бывал в Ясной Поляне брат Л. Н. — Сергей Николаевич Толстой. Ни лицом, ни сложением, ни фигурой братья не были схожи, ни — прибавлю — темпераментом и убеждениями. Мало того, редко можно было встретить столь мало схожих. Когда они сходились вместе, не проходило минуты и смотришь — уже сцепились. «Льву Николаевичу хорошо, — говорил Сергей Николаевич, — он может с мужиком ладить: мужик надует его на 100 р., а он, Лев Николаевич, его опишет, получит за это 500 р. — чистый барыш!». Но далеко не все, написанное братом, одобрял Сергей Николаевич.
«Раз пришлось мне читать вслух „Кавказский пленник“... „Жил на Кавказе барин, звали его почему-то манерным, плохим... “»40.
О работах брата по Евангелию — и говорить нечего: Сергей Николаевич отвергал их совсем, и споры главным образом касались их. Когда Л. Н. затеял Общество трезвости41, Сергей Николаевич опять-таки взглянул на это как на нечто ненужное: «Без рюмки водки желудок у меня плохо варит». Когда Л. Н. выражал вегетарианские воззрения, Сергей Николаевич говорил: «Что же в том, что мы убиваем животных? Ведь мы дохну́ть не можем без того, чтобы не погубить миллионы организмов!» По-видимому, он затеянное Л. Н. дело считал пустяками, увлечением, каких в жизни Л. Н. было не мало...
«Я помню, Левочка увлекался тем, чтобы жить в деревне, как мужики, жениться на крестьянке, подбил других. Другие были готовы, даже попортили несколько девок, а сам он взял да женился на Софье Андреевне — и отлично по-моему сделал!..»
Братья не схожи были и по женитьбе: Л. Н. и мечтал, может быть, жениться на крестьянке, но женился на дочери придворного доктора Берса, а Сергей Николаевич, этот аристократ, барин (мне иногда думается, не есть ли тургеневский Павел Петрович Кирсанов список с Сергея Николаевича), мечтал жениться на сестре Софьи Андреевны, а женился на простой цыганке из табора... Они сходились и не могли не спорить, но это значит только одно — они и любили и уважали друг друга. Лев Николаевич называл воззрения брата дикими, но уважал их за то, что они у него свои, не начитанные, а Сергей Николаевич говорил мне в Москве раз весною, что с отъездом Л. Н. он не знает куда деваться — нет живого человека!
‹1885›
24 июня. Вчера я приехал в Ясную Поляну42. Сегодня видел ее всю и всех ее обитателей.
За чаем толковал с Л. Н. и Татьяной Андреевной43 о воскрешении Николая Федоровича44. Это воскрешение Л. Н. сопоставил с теорией брата своего Сергея Николаевича, которая заключается в том, что мир состоит из частиц, изменяющих формы своего сочетания в бесконечности пространства и времени, и что, следовательно, возможна и такая комбинация, что раз уничтожившееся снова придет в прежнюю форму. Разница та, что у Николая Федоровича все предоставляется сознательной деятельности человечества, а у Сергея Николаевича — простому процессу.
25 июня. Вечером, вернувшись с прогулки из Ясенков45
26 июня. Идя домой из леса, встретил Л. Н. Он сказал, что пишет все по поводу политической экономии, — о ренте и т. д.46, сообщил о сочинениях американца Джорджа47, который со многими положениями этой науки не согласен. В книге «Progress and poverty»18* он приходит к тому заключению, что для того, чтобы покончить со многими экономическими неурядицами, надо национализировать земельную собственность, отменив все налоги, прямые и косвенные.
— Политико-экономы, — продолжал Л. Н., — сами сбиваются с толку, говорят, сами не зная что; например, толкуя собственно о государстве, они говорят о человеке вообще... Я многим из так называемых консерваторов толковал, что вопросы политико-экономические в настоящее время находятся в таком же положении, в каком был в начале нынешнего столетия крестьянский вопрос.
26—29 ‹июня›. Со Л. Н. беседовать приходилось мало. Впрочем, раз за чаем говорили про Мэтью Арнольда48 по поводу того, что у него есть мысли, сходные с мыслями Л. Н. «Свободомыслие одного века есть обычное воззрение века последующего», — мысль, не показавшаяся мне новой, но она очень нравится Л. Н.
Лев Николаевич с графиней и Илюшей сидел за утренним чаем под липками, около крокета. Илюша заметил, что около Ясной Поляны мало дичи. Лев Николаевич возразил на это, что дичи и вообще никогда не бывает много. У него был на Кавказе знакомый казак Ерошка, которого он в повести «Казаки» вывел под именем Епишки49. «Утром уходил он на охоту, — говорил Л. Н., — брал с собой двух собак, все снасти и приспособления для охоты и для ловли дичи — и все-таки при всех тогдашних удобствах для охоты не убивал много».
— В нравственном отношении Ерошка был не зверь, а животное, — продолжал Л. Н., увлекаясь воспоминаниями, — убить человека ему было нипочем. Ермолов50 «Ну, что? с чем ты?» — «Я его вот так поманил пальцем в сторону, вынул из кармана и показал кисть руки».
— А то был еще чеченец Балта́51. Этот занимался кражей и пьянством. Украдет где-нибудь лошадь, продаст и сейчас приезжает в город, нанимает двух музыкантов, покупает рому и пьет, пока не пропьет всего. Раз пришел он к русским, видит — играют в деньги. У Балты́ не было ни гроша, зато был тут у него кунак. Он видит, что на кону̀ стоит что-то рублей 20—25. Занял он у кунака 20 к., разменял на медь, подошел к игрокам, загремел медью в кармане и кричит: «Хочешь на все?» — «Сам думаю, коли не моя возьмет, пистолет со мною, выстрелю в кого-нибудь и убегу». Согласились — кон взял Балта́. Опять пошло пьянство и музыка, а потом безденежье. Когда выходили деньги, он доставал навертку, наверткой проделывал дыру в двери конюшни, отмыкал изнутри крючок или задвижку, уводил лошадь, продавал, и опять начиналось пьянство и музыка.
30 ‹июня›. Был князь с армянской физиономией — Абамелек-Лазарев52— все известно по книгам.
Был в Ясенках, беседовал с тамошним кабатчиком, который хвалил «Чем люди живы» и заявил мне сомнение в учебных успехах Илюши и объявил, что даже знает о нашей поездке с Сережей на лодке.
К нему пришел мужик с бабой. Услыхав, что мы говорим об Л. Н., мужик сказал, что у них в Малахове есть старичок, балясник.
— Все к графу хочет сходить, да боится, что в шею выгонят. А уж такой — страсть! Начнет рассказывать, — три дня не отойдешь от него. Где-где ни бывал — и на Кавказе и в Турции. Двенадцать лет от господ бегал, а как вышла воля, вернулся. Такой балясник! Хочет сходить, да сумлевается, как примет граф — может, в шею выгонит, а может, водочки поднесет.

С. А. ТОЛСТАЯ
Рисунок Л. О. Пастернака, 1901 г.
Музей Толстого, Москва
В этот же день в кабинете У Л. Н. неожиданно встретил какого-то Файнермана53— по словам его — благодаря Л. Н. уверовал во Христа.
Вечером, после чаю, до полуночи беседовали с графом. Между прочим, он говорил о том, что теперь старикам приходится идти впереди молодежи. Молодежь — или революционеры, или из разряда людей, которым все наплевать, а «на наш, мол, век хватит!» У молодежи последнего разряда — полнейшее отсутствие духовных интересов, отсутствие чутья, такта. Армянский князь, например (он уже успел уехать), на поле выходит в кольце, в котором два камня по 150 р. каждый. Другой (но кто, не было сказано) стоит на крыльце, манит своих ребят, а лакей в это время ползает по земле, чистит ему сапоги.
— Да в былое время, — продолжал Л. Н., — декабристы за стыд бы это сочли, да сочли бы за стыд и вообще в гвардии. Такой же взгляд был тогда и в армии. А теперь дошло бог знает до чего! Люди только и стараются оскотинить насилием других людей для того, чтобы, в конце концов, и самим оскотиниться.
Отсутствие духовных интересов среди молодежи лучше всего сказывается любовью к картежной игре.
1 июля
Еврей говорил, чтобы всю землю отдать мужикам. Лев Николаевич указывал на неудобство — наверное ничего не выйдет. Кому отдать и как отдать? Крестьянин, поступивший в лакеи, получив землю, сам работать не станет, будет сдавать. Гораздо лучше проект Джорджа о национализации земли: устранить все другие подати и налоги и брать высокую пошлину с земли, которая будет принадлежать правительству. Земля будет давать только излишек (ренту) в пользу того, кто сидит на ней. Джордж, впрочем, вычисляет, что и тогда землепашец не останется в убытке, потому что не будет других косвенных налогов. Налог должен составлять, по крайней мере, 80%, а 20% останется в пользу землепашца.
Лев Николаевич ушел писать, я его видел только за обедом.
После обеда толковал с евреем, который старался мне показать, что есть два рода насилия: один для личного блага, незаконный, другой — для общего блага, законный. Так как главная заповедь Христа касается жизни общей в любви, труде и согласии, то при достижении такой высокой цели не надо смущаться насилием, потому что оно законно. Я спросил, согласен ли он с учением Л. Н. Он отвечал, что да, и когда я сказал, что Л. Н. коренным пунктом своего учения ставит непротивление злу, он не согласился. Пришел Л. Н., потом Стахович54. Заговорили опять о насилии. Объясняя Стаховичу, что́ такое насилие, Л. Н. рассердился и стал кричать, как никогда. Затем стих, а еврей все продолжал гнуть к тому, что есть и законное насилие.
́ вместо свекровь сказала недавно Л. Н. какая-то приходившая в Ясную Поляну старуха. Говорили о легендах и мифах, до сих пор ходящих в народе. Ходят они зачастую в обрывках, как и пословицы. Петрович55, приезжавший недавно в Ясную Поляну, сообщил Л. Н. тему для «Чем люди живы». В Ясной Поляне он пел и богатырские песни. Слушая их, один яснополянский мужик заметил о Петровиче:
— Хорошо ему, немцу, на сытое-то брюхо петь!
И Л. Н. стоило труда уверить мужика, что тот поет по-русски. Так эти песни стали чужды в здешних местах народу! Петрович же рассказал миф такого рода. Сидел бог на камешке среди моря и стал молотом ударять по камешку. Выскочила искра — стала ангелом. Поклонился ангел и отошел. Выскочила другая искра — стал другой ангел, поклонился богу и отошел. И натворил бог ангелов много, а потом ушел. Пришел дьявол, сел на место бога, стал высекать искры, и стали из искр делаться дьяволы. Затем у ангелов с дьяволами начинается борьба; дьяволы почти одолевают ангелов, но является главный божий воевода Мик и побеждает дьяволов.
«Не износится лицо без стыда», — сказал я как-то Петровичу пословицу. — «Как платье без пятна», — досказал он.
‹ьву› Н‹иколаевичу› как бы в доказательство того, что и пословицы наши зачастую ходят не в полном виде.
Не помню почему, заговорили о яснополянской покровительнице животных, старухе Агафье Михайловне56. Лев Николаевич сказал, что она любит животных по-буддийски: кормит и призирает собак; ошпарят петуха — и петуха шпареного не забудет. Внутри нее такой мир идей и чувств, пережить который дай бог какому-нибудь Шопенгауэру, только мир-то этот несравненно лучше, искреннее. Рассказывал Л. Н. о ней, как она передавала ему о часах, которые пустил у нее в ход Илюша.
— Ночью-то я, батюшка, не сплю, лежу, да слушаю. И все-то они точно говорят мне: «кто ты? что ты? кто ты? что ты?»
Еще лет 50 тому назад (она помнит Л. Н. грудным ребенком) пошла она к доктору лечиться. Тот и спрашивает: «Что у тебя болит?» — «Да так, батюшка, — отвечает, — точно будто береза в животе растет».
«Пошла я, батюшка, в Бабурино (за 4 версты) для нее за кавалерами. Гляжу, а за мной идет их целая стая, да такие все мужики... Куда, думаю, ей такие — я и сама не рада была». Людей она любит не так сильно, как животных, — на этих остановились, кажется, все ее симпатии. Войти к ней — сейчас же увидишь почти на пороге какую-то серую массу, которая начинает шевелиться. Это собаки, прикрытые ее юбкой или шалью.
Я не помню, почему мы завели речь о рассказе «Свечка»57. «Я слышал его от пьяных мужиков, с которыми мне пришлось ехать из Тулы. Он мне понравился именно своею грубою простотою — так и пахнет мужицкими лаптями!»
Мы перешли из залы в гостиную к графине. Продолжая разговор о литературе, мы заговорили о романах и Вальтер-Скотте. Лев Николаевич выразил ему неодобрение и припомнил, что когда Вальтер-Скотт умер, то один из знакомых сказал:
— Ну, слава богу, по крайней мере теперь не будут меня спрашивать, читал ли я его последний роман!
«Это баловство от нечего делать, — говорил Л. Н. — Люди живут бог знает в каких условиях, соблазны на каждом шагу, дела никакого нет, и вот начинается дурь. Дурью начиняет себя девушка, так что стоит только кому-нибудь явиться, ее с этой дури разрывает, точно с пороха, и начинается чепуха. От этой чепухи надо отличать присуху, как говорят в народе, когда люди привязались один к другому, но между ними стоят неодолимые препятствия. Это — величайшая мука. Любви желать — желать холеры, и нужно удивляться людям, которые ищут этой холеры и находят в этом какое-то удовольствие. Иное дело — любовь между мужем и женой, когда люди сживутся между собой. Но и это не есть счастие, а есть то же, что воздух, вода, т. е. одно из необходимых условий человеческой жизни».
3 июля. За обедом Лев Николаевич, не помню почему, вспомнил о мистере Лонге, миссионере, который прожил в Индии 20 лет58 ужасном французском языке он говорил графине: «Madame, avez-vous été à Paris?»19*. Рассказывал, что, крестя индусов, они в то же время оставляли им многоженство. Будучи лет 45, он казался гораздо старше: индийский климат дает знать себя англичанам! Они не хотят применяться к местным условиям, приезжают со всеми своими привычками — с бифштексом, боксом и пр. Потому-то они в Индии и не выводятся: кто из англичан женится, тот будто бы уезжает в Англию.
За вечерним чаем шла речь о литературе и писателях.
— На вазе разные арабески вперемешку, амуры, цветы и т. д., все красиво, но для чего? какая в этом цель? — говорил Л. Н. — Так же и писатели (английские). Горе и радость, веселье и страдание в романах, все вперемешку, — к чему все это, какая цель? Русские считают нужным читать Пушкина, Тургенева, Толстого, и этой-то дребеденью заслоняют книги, которые для людей действительно нужны. Мысль есть самое важное в человеке; сообразно мысли живут и поступают люди. Стало быть, хороша та книга, которая говорит мне, что мне делать. А люди стараются из книги сделать какую-то забаву, игрушку. Это все равно, что хлеб: хлеб существует затем, чтобы его есть, а кто скажет, что он существует для того, чтобы помягче на нем сидеть, это бессмыслица, чепуха. Английские романисты именно и сделали из книги такую игрушку; их произведения — в сущности бесцельная игра света и теней, например, у Брэддон, у которой к тому же романы, как и у многих английских писателей, носят печать фабричности, несмотря на мастерство языка59«Семействе Ругонов» состоит в том, чтобы проследить дегенерацию фамильных черт — что-то напоминающее Дарвинову теорию. Это дает ему опору, несмотря на всю ложность исходной точки зрения, и вот отчасти почему он читается во всей Европе; мы, сидя в Ясной Поляне, горим нетерпением прочесть его новый роман. Тургенев до самой смерти так и занимался в сущности пустяками. Я чувствовал это еще тогда, и это впоследствии возбудило даже его неудовольствие на меня. Настоящее лучшее его произведение — «Записки охотника». Тут есть прямая цель. А после ему, очевидно, стало нечего писать, и пошла ужасная чепуха. Я помню, как Анненков, главный критик, я и другие собрались у Панаева читать «Рудина»60. Я чувствовал что это чушь и больше ничего... Лаврецкий, Базаров — и это все мне тоже не нравится. Лучше всего «Новь»: тут выведено что-то реальное, соответствующее жизни. А в Рудине, Лаврецком, Базарове — ничего нет: что говорит Базаров, то только разве и хорошо. Да и быть ничего не могло: ведь те движения, представителями которых являются Рудин, Лаврецкий, совершились только в умственной сфере, в поступки не переходили, оттого-то и не могли дать содержание художественному произведению, тогда как «Новь» могла. Повесть Тургенева «Живые мощи» — прелестный рассказ, который был написан, очевидно, давно; он отдал его в печать по просьбе и то со стыдом, потому что там есть что-то похожее на религиозную идею, со стыдом потому, что за повесть такого характера Белинский бранил, а в Тургеневе воспоминание о сороковых годах было свежо. Художественная форма хороша только там, где она необходима. В моем маленьком деле я чувствую, что могу лучше всего выразить свои мысли именно этим путем — я ее и употребляю и для интеллигентной публики у меня есть прямое средство.
4 июля. Утром, когда я хотел взять Джорджа, чтобы прочесть о Мальтусе, пришел Л. Н. в кабинет одеваться. Он сказал, что после Джорджа Мальтус стал для него ничто — о нем он уже не может и говорить серьезно. Его теория об умножении населения и продуктов сделана для английской аристократии; что, мол, есть, того не переделаешь — так живите, как живете! А в сущности это писатель бездарный, которого не принимали ни в один журнал, пока он не написал своего «Опыта о населении»61. С той поры начинается его успех и слава. Если иметь в виду только бессовестную эксплуатацию природы человеком, пожалуй, тут и была бы правда. Но дело в том, что сюда, именно в отношение людей друг к другу, к земле и к ее продуктам, входит элемент бесконечного, который изменяет все. С умножением людей умножаются и средства для прожития: на двух десятинах троим легче жить, чем двоим. «Это все равно, как на корабле, — говорит Джордж, — выйдут припасы, по-видимому, все кончено. Но это не так: стоит приподнять пол, и внизу увидишь еще много припасов»...
— Из-за чего же я бьюсь, — продолжал он, — я вижу кругом людей, которые запутались во всей этой чепухе. Ко мне приходят профессора или — как назвала их одна барыня (Олсуфьева) — волхвы. Они пережили гимназическую и университетскую пору, стали магистрами и докторами, лет по 10—15 профессорствуют, читают все, что напишут другие, европейские волхвы. Ведь это не шутка. Ну и что же в их писаньях? Кроме путаницы я ничего не нашел. Разбирать всю эту путаницу по пунктам — на это не хватит целой жизни. Я беру самые корешки и вижу, что именно тут-то и нет ничего. Благодаря Джорджу, Мальтус для меня теперь не существует. Кто положит предел человеческой мысли? Мы сами дивимся на удивительные открытия, но только дело в том, что общественный строй в своем теперешнем виде остается далеко позади всего этого.
5 июля. Видел купца-раскольника, приезжавшего к Л. Н., который толковал ему об «Учении двенадцати апостолов».
Лев Николаевич косил часа два. Я наблюдал за ним из-за деревьев, когда он уже кончил: положил брусок в брусницу, вскинул по-мужицки на плечо косу и тихо, задумчиво направился домой. Я вышел, он меня увидал.
— А я только что думал о том, что скоро придется умирать, — сказал он. — Хороша смерть, когда жил не как мы, которые наедаемся бог знает до чего, в то время, как другим нечего есть.
Он вспомнил о Николае Федоровиче, как он живет. Он уважает, любит его больше всякого и удивляется, что тот от него отшатывается.
— Николай Федорович говорит, что между людьми братства потому нет, что нет общего дела; будь оно, было бы и братство; делом этим он считает воскрешение. Я же говорю, что братство может быть и без общего дела, пожалуй, просто вследствие того ужаса нашего положения, который есть прямой результат отсутствия братства. Он этого не хочет понять.
У него есть пункт помешательства, которого у меня, должно быть, нет. Я ему говорил: поставьте вы общее дело целью, не определяя его точно... Но с философской точки зрения его построение правильно, он прав, ставя человечеству такую задачу, если только отодвигать ее исполнение в бесконечность времени.
После вечернего чаю Стахович в гостиной читал свои стихотворения, а я со Л. Н. слушал из залы. Стихи, видимо, были недурны, но читались напыщенно.
— Когда так читают, — сказал Л. Н., — мне всегда хочется залезть под диван.
6 июля. Сегодня вечером, разговорившись о спиритических явлениях, Л. Н. стал горячо ставить их на одну доску с чертовщиной: «Почему я должен верить в какой-то бишопизм или гипнотизм? В таком случае надо верить и бабе-знахарке и мужику, который подал Сергею Николаевичу (брату) жалобу на соседа, что тот у себя на зло ему держит в сундуке семь чертей. Есть область серьезного и область суеверия, человеку надо чувствовать разницу между тем и другим. Если человек пустится в область суеверия, ему некогда будет заниматься даже своим прямым делом. Все такого необычного рода явления имеют один характер: они связаны с внутренним человеком, с его внутренней организацией. Явления, которые можно понимать, даже, например, гипнотизм, доступны исследованию — в гипнотизме, например, влияние на нервы блестящих поверхностей. Но явления, связанные с внутренним строем человека, наблюдать нельзя, потому что чем было бы их наблюдать? Явления материальные доступны опыту, явления духовные — нет. Душе тогда пришлось бы разглядывать себя как бы в зеркале и свое отражение в нем схватывать, но возможно ли это?»
. Вчера за обедом Л. Н. говорил, что когда он косил, загремел гром, закачались от ветра деревья, и ему вдруг стало почему-то жутко.
— Но я вспомнил, что может мне сделать гроза? Разве убить — и только. А это — я и вчера вам (т. е. мне) говорил — самое желательное для меня. Значит, я боюсь того, чего желаю. Как только я подумал это, сейчас же во мне пропала всякая жуткость.
Сегодня после обеда я увидел под окном человека с виду очень странного. Он был очень бедно одет: в рваных валенках, рваном полушубке, поверх которого было надето что-то еще, и в старой не то шляпе, не то фуражке. Лицо с бородой, добродушное. Я догадался, что это должно быть так называемый Чинов окончил62
Он не замедлил со мной заговорить и отрекомендовался мне как «служащий, поставщик военного провианта светлейший военный князь Григорий Федотов Блохин».
Он желал увидать графа, чтобы попросить позволения пообедать и переночевать. Лев Николаевич как раз подоспел к нам; подошла и Ольга Николаевна Тиблен, гувернантка у Татьяны Андреевны.
Чинов окончил когда-то служил, и у него тот пункт помешательства, что за службу ему следует получить награду от царя — деньги, имения, крестьян. Лев Николаевич повел нас всех в свой кабинет, велел мне с Ольгой Николаевной взять по карандашу, по листу бумаги, а сам начал со свойственным ему уменьем задавать сумасшедшему чудаку вопросы. Мы записывали ‹...›
— только это квинтэссенция; все мы тоже убеждены, что нам надо откуда-то получать для свободного прожития, а что другие должны на нас работать...
Вечером Л. Н. стал читать книгу Иова; читал довольно долго, было скучно, хотя и не все в этом сознавались. Я сказал откровенно, что на мой взгляд она скучна и многословна. Лев Николаевич старался показать ее значение; это протест человека, который по жизни безупречен, против бога за то, что он посылает на него беды одну хуже другой. Прежде, при патриархах, благословением за безупречную жизнь считались стада, потомства, рабы; Книга Иова идет дальше, она берет человека безупречного, в котором сильно побуждение к добру, но на которого бог обрушивает всевозможные бедствия. Он ропщет на бога — за что же это? стоит ли быть безупречным? и за всем тем не теряет своих стремлений к добру. Это, во-первых, протест, т. е. лирическое выражение ропота на бога за несправедливо посланные испытания; во-вторых, знамение совершившегося переворота в нравственном мире еврейского народа, того завершенного Христом переворота, благодаря которому добро стало заключать награду уже в самом себе, т. е. книга имеет значение историческое. О Ветхом завете Л. Н. заметил вообще, что там много красот эпических, чувствуется, crudité20*, например, в эпизоде о Ревекке63.
Мы вышли в сад, где, забыв Ветхий завет, он опять стал говорить об экономистах. Они с Миллем во главе о меркантильной системе говорят, что это нечто такое, что удивляешься, как люди могли писать подобную чушь.
— Точно то же можно теперь сказать и о Милле. Я прежде выражал недовольство, что пришлось жить в Москве, но теперь вижу, что в жизни всякого человека случается именно то, чему должно случиться, и что жизнь слагается именно так, как ей должно сложиться.
Это было ответом на мои слова, что его теория о деньгах является совершенно новой и что причиной этого было, вероятно, его пребывание в Москве64.
. Лев Николаевич косил часа с три.
— Так хорошо косил, сделал много, — сказал он, — так славно устал — хочу купаться.
После чаю зашла речь о нашем образовании. Лев Николаевич говорил, что такое святое дело, как образование и знание вообще, переплетено с самыми мерзкими целями, которые с делом знания общего ничего не имеют, и потому образование теперь скорей развращение.
Придя в кабинет, относительно закона сохранения силы он, не помню, по какому поводу, сказал, что тут собственно нет никакого открытия. То же-де говорит и Страхов65.
. Сережа (старший сын) все что-то писал сегодня, пока я корректировал «Два старика»66. После он дал мне прочесть свои писания; оказалось — рассказы и очерки. Недурно.
Вечером нашли мы Татьяну Андреевну что-то чрезвычайно грустной. Она все жаловалась на судьбу и на бога, говорила, что все на свете игрушки и что жить не стоит того, что ей приятно делать все назло богу — он хочет так, а я сделаю по-своему.
Зашел вопрос о том, можно ли располагать чужой и своей жизнью, чужой даже в том случае, если об этом просят. Лев Николаевич говорил, что для него это было всегда вопросом неразрешимым. Ольга Николаевна Тиблен сказала, что можно располагать, когда это явно лучший исход. Лев Николаевич возразил:
— Этого сказать нельзя. Быть может, человек, который просит о прекращении жизни, скажет что-нибудь или сделает важное и значительное — как за это ручаться? Притом же страдание не есть такое бедствие, которое даже при высокой степени должно вести к прекращению жизни.
Эпиктет говорит: если у тебя лихорадка — вот тебе случай показать твердость духа67. Из всех явлений жизнь есть самое важное и таинственное.
Говорили о молодости, о том, как человек изменяется в другие возрасты жизни.
— Перемены, собственно, нет, — сказал Л. Н., — изменяется форма, а не сущность. Я, каков прежде был, таков и теперь остался — и пошл, и глуп, и гадок; изменение разве в степени.
— От жизни нельзя требовать, чего она не может дать, — говорил Л. Н., очевидно, имея в виду прежнюю тему. — Иначе будешь похож на князя Блохина, который все ждет откуда-то получения. Что ни сделай ему, какие средства ни употреби для его удовлетворения, он все-таки будет несчастен, потому что сошел с ума на том, что ему должно явиться получение в три миллиона. Точно так же несчастлив и человек, который предъявляет к жизни такие требования, какие предъявлять нельзя. Да и какое право мы имеем на это? Разве такое же, как и князь Блохин на получение миллионов. Так называемые несчастия не настолько ужасны, как кажется.
— Я помню, в Брюсселе я зашел к Лелевелю68, — сказал Л. Н., — о нем сказал мне Герцен. Я спросил о нем в лавочке. Мне с восторгом и уважением указали, где он живет. Я вошел, вижу — грязно, на двери вместо молотка что-то вроде чернильницы, бедность, вонь, противный запах от старческой урины. Отворяю дверь — в комнате книги, пыль, сор. Лелевель — седой, почтенный старик — сейчас же со мной разговорился, с живостью начал толковать о политике, доказывать, что Смоленск — исконный польский город. Что же после этого несчастия?
Когда мы пошли провожать Татьяну Андреевну во флигель, где она жила, она продолжала толковать, что все на свете пустяки, что бог хочет так, а я нет.
— Назло ему сделаю, как мне хочется; он послал засуху, а я у себя в огороде и цветнике возьму да и буду поливать — на ж тебе!??
— Да ты, Таня, когда жара, возьми уж лучше да поставь барометр на дождь — и утешайся, что сделала назло богу! — сказал Л. Н.
12 июля. Сегодня ходил гулять с гувернанткой m-me Seuron69. Она мне рассказывала, что прошлый год какой-то доктор Лазарев, наслышавшись о школе и о лечении в Ясной Поляне, посетил графа. Он ожидал будто бы видеть у него простоту и тишину, а увидал нечто другое — и роскошь, и гостей. Ходил смотреть школы — школы нет; спросил, сколько кроватей в лечебнице — оказалось, что нет и самой лечебницы. Разочарованный, он будто бы и уехал-то утром, не простясь ни с кем, а после в одной из газет появилась статья, где говорилось, что у графа слово расходится с делом70.
Вечером Л. Н. читал присланную ему из Минусинска любопытную рукопись крестьянина Тимофея Бондарева71.
. Сегодня вечером читали почтовый яснополянский ящик72. Статьи были разные — глупые и нет, скучные и веселые. Прохаживались все больше насчет меня и miss Gibson и насчет того, как я хожу пастись на крыжовник... Когда уже все почти разошлись спать, Л. Н. мне сказал, что Чертков думает прислать ему статью из газеты «Pall Mall» о лондонском разврате73.
— Мне всегда казалось, — сказал Л. Н., — что у англичан дело обстоит не совсем благополучно. Читая их романы, мне всегда думалось, что авторы что-то скрывают, в чем-то лицемерят, про что-то не договаривают. Правдивый Диккенс у них считается, например, писателем неприличным. Миросозерцание русского народа, в противоположность английскому и другим, человечней. Замечательно, что русский человек чтит царя, как никто, и в то же время считает и его человеком!
15 июля«Анне Карениной» ему понравилось.
— Все правдиво, нет фальши, но читал я в «Войне и мире» описание, как Наташа была в театре, и так мне стало противно! Это бог знает что!
Лев Николаевич велел принести записную книжку и стал читать кое-какие выдержки — слова, выражения, рассказы, слышанные им у Петровича. Оказывается, что «Два старика» рассказал ему Петрович, «но бестолково, так же, как и фабулу повести „Чем люди живы“».
Петрович — старик, приезжавший в Москву лет пять тому назад. Он ремеслом сапожник, с малых лет занимался с дядей сапожным делом; дядя-то и научил его многому. Лев Николаевич увидал его в Москве, а так как Петрович собирался идти в Киев, то он и пригласил его в Ясную Поляну.
Я раз сказал, что охота — варварство. Лев Николаевич согласился, но сказал, что трудно ему было уйти от этого, что отец и дед его были охотники, и все в доме привыкли считать охоту за что-то важное.
— Недавно как-то я видел, как собаки гнались за зайцем. Ну как! думаю, поймают, — жалко. Но слава богу — не поймали.
Раз, гуляя, он услыхал выстрел и догадался, что стрелял Илюша (после так и оказалось, Илюша убил зайца). Он нарочно пошел другой дорогой, чтобы только не видеть убитой дичи.
Сегодня вечером Илюша, только что успевший приехать с охоты, и Леля отправились на охоту за волками. Когда они ушли, Л. Н. мне сказал:
— Это мой грех. Леля — этот еще ничего, но на Илюшу так глядеть противно!
Перед тем, как ложиться спать, я выходил в сад. Лев Николаевич был в кабинете. Заслышав мои шаги, он вышел и сказал, показывая колодку с натянутым на ней башмаком из толстой холстины и кожаной подошвы:
— Вот чем я горжусь! Посмотрите — вы еще моей работы не знаете. И все будет стоить полтора рубля.
Косит он каждый почти день. Луг скосил, принялся за рожь. В субботу (13 июля) не приходил даже обедать, — велел девочкам принести чего-нибудь на место.
За обедом он упоминал о своих поездках за границу.
— Другие думают, что надо читать Шекспира, Гёте, Пушкина и прочую дребедень; так же думают, что надо побывать непременно где-нибудь в Париже, Лондоне. А там то же, что и у нас, с небольшой разве разницей. Настоящая заграница — по деревням, и от деревень за границей у меня остались приятные воспоминания.
16 июля
— Вы только подумайте — из десяти человек от девяти вы наверное услышите то, что вычитано из газет. Страхов мне как-то говорил, что по общей моде и один американец стал писать жизнь Христа. И вот, описывая, кажется, вход в Иерусалим, он заметил, что в Иерусалиме про Христа еще ничего не знали, потому что «вероятно, газета не успела выйти». Он писал — и не мог себе представить, как это так можно жить без газеты!
Вчера видел Агафью Михайловну, о которой немало говорил еще так недавно Л. Н. Все беспокоится о собаках.
— Да что, батюшка, я уж мышей стала жалеть. Сварила я намедни варенья себе, густое такое вышло, выложила в банку, а покрыть-то хорошенько и забыла. Только вечером, попью, думаю, чайку с вареньицем, открыла банку, а там, гляжу, мышь, чтоб те пусто задавило, сидит, ворочается, как черт какой. Жалко мне, батюшка, стало, вынула я его из банки, вымыла и пустила на двор.
После завтрака читал графине корректуры из «Войны и мира». Дамы настолько заинтересовались, что просили дальше читать уж так.
74, желая как будто оправдать их, толковал, что жены у них бывают духовные (хотя в то же время могут быть и плотские), но сбивчиво, невразумительно, тем более, что перед тем сам же упрекнул, кажется, Милля75 за то, что тот несколько слегка отозвался об единоженстве, и привел даже слова полемизирующего против него Арнольда. Потом зашла речь о секте перфекционистов76, которые имеют в виду производить и воспитывать детей при наиболее благоприятных условиях. Лев Николаевич возражал, что они были бы правы, если бы люди были бараны. Задавшись мыслью развести, например, тонкорунных овец, мы не встретили бы затруднений. Но люди — иное дело. Тут перфекционисты велят родить ни много, ни мало, но как это определить? Может быть, тот самый ребенок, который, по их мнению, лишний, может быть он-то, слабый, хилый (Паскаль, Ньютон, Эпиктет), и будет для людей важнее многих миллионов. Такая теория только и могла возникнуть в стране фабрик и заводов — в Америке!
17 июля
— Получше поесть, — ответил он с доброй, милой усмешкой, — в гости сходить, к себе гостей принять, государь император у меня тогда завсегда будут!
Идет в свое имение в Лисьи Переяры77 к брату, который, видимо, его не очень жалует. Из Лисьих Переяров он пойдет снова в Тулу.
— Государь император приедут. Без них, знаете ли, никак невозможно получать. А приедут — тогда другое дело!
. Приехала княгиня Урусова78 с тремя дочерьми: Ирой, Мэри и Стасей. Это отцветшая, но бойкая, с непринужденными манерами и разговором женщина. Дочери — старшая красива, похожа на отца, бывшего тульского вице-губернатора, младшие скорей дурны; говорят все три по-русски как будто с усилием: им, очевидно, ловчей говорить по-французски или по-английски. Заграницей от них так и пахнет. Мне было немного странно видеть, как русские девушки на русском языке говорят словно не по-русски — с некоторым эмфазом, жестами, напоминающими как будто француженок на сцене.
Княгиня за обедом, услыхав, что Л. Н. еще шьет сапоги (он перед обедом действительно шил, он носит теперь обувь своей работы), сказала, что в какой-то французской газете была по поводу этого статья «Comte Tolstoy cordonnier»21*, желающая уяснить, какой в этом смысл для России. Предлагали будто бы то же и Ренану, но он отказался.
Между тем подоспел Л. Н., и речь сейчас же зашла о вегетарианстве.
— Наступит время, — сказал он, — когда докторам придется открыть, что бульон для маленьких детей вреден. Я помню, в детстве, когда меня заставляли есть бульон, мне всегда было неприятно.
Сам он почти с самого моего приезда мяса не ест. Я не ем только птиц. Помню, что вскоре по приезде я за обедом не стал по обыкновению есть цыплят.
— И я хотел было взять, но по вашему примеру не стану, — сказал он, и с той поры не ест уже мяса вообще.
Агафья Михайловна, идя от собак, жаловалась мне сегодня на Илюшу, на его грубость и на то, что нет мальчика ходить за собаками. «Намедни, батюшка, пришел он сюда и стал браниться. Ну, уж, Илья Львович, — говорю я, — дай бог царство небесное покойному государю Александру Николаевичу — коли б не он, что бы вы со мною сделали?!»
Рассказывала опять про мышей:
— Они ведь хорошенькие, хоть и скверны, поганые.
Развелись у ней в комнате в какой-то дыре мыши.
— Слышу я, батюшка, пищат мышата, а мышь-то сама — слыхали когда? — так и клохчет около них. Только смотрю я раз, на полу кошка с чем-то играет. Никак, мол, с мышью? Гляжу, и впрямь с маткой. Подержала я кошку, дала мыши убежать, а сама думаю: что я ошалела что ли, или за грехи господь наказывает — мышей любить стала? Льву Николаевичу и говорю про то. А он мне и говорит, что это хорошо, что один индийский святой увидал раз на живой собаке червей, пожалел ее, очистил от червей, а сам потом думает: как же червям-то быть? Да взял да и червей мясом накормил79. Как он мне это сказал, — ну, думаю, не прогневался еще на меня господь, не ошалела я.
Вечером княгиня Урусова рассказывала о Париже, о том, как, в сущности, бедны французы, как дороги съестные припасы, как много нищих в Париже. Земля, будто бы, дает только полпроцента, все стремится в город, играет на бирже. Дело, пожалуй, скоро дойдет до того, что картофель будет в цене наравне с часами. Главный расход в Париже — стол. Говорили об упразднении бога, снятии креста с какой-то колонны. Лев Николаевич назвал французов передовой нацией.
— Это эмбрионы (находящиеся в теле существа, которые пожирают его по смерти): как скоро что подлежит уничтожению, они первые бросаются уничтожать. Как еще далеко до этого у нас! Когда происходят беседы в лакейской и Александр Петрович (переписчик) либерально заговорит, например, о мощах, то сейчас же, кто ему возражает, приводит это в связь с убийством государя. Если убийство не хорошо, то дурно и то, что не почитают мощей, и выходит путаница!
Говорил он о том ужасном рабстве, в котором живут европейские государства. Никакой Чингис-хан не налагал такого ярма, какое налагается на людей в свободных государствах. В России еще тем хорошо, что хоть не хвалятся свободой, ну а другие-то, европейцы-то, что? Одна воинская повинность стоит чего! Люди, точно какие-то бараны. В одном селе взбунтовались мужики; было их человек триста. Был у них исправник молодец. «Не нужно мне ни команды, ничего, — думает он, — я их и так усмирю». Приезжает в село, велит приготовить два воза розог, зовет бунтовщиков в ригу и приказывает им перепороть друг друга. Бунт стих. То же самое и в Европе, и везде. Чем бы понять всю глупость своего положения, люди наперебой стараются перепороть друг друга: «Эй, парень, иди пороться-то что ль!» Ученые и неученые, профессора и другие только и жаждут, чтобы их как можно скорее перепороли. Когда удалили Муромцева80 из университета, студенты поднесли ему адрес. Отвечать пришлось профессорам. Усов81, Бугаев82 и еще кто-то были призваны к Капнисту83 — это не то, что исправник, это дурак и больше ничего — и Капнист делал им выговор, а из них Бугаеву шестьдесят лет! То же и насчет воинской повинности. В Москве один кишиневский помещик отказался от присяги и службы. Это всем показалось необычно — как это он не кинулся в воду вслед за другими по-бараньи, а сказал: «Дайте мне подумать своим разумом, нужно ли это».
Говорили о русских нигилистах. Чертков, бывший офицер, рассказывал Л‹ьву› Н‹иколаевичу›, как содержался один политический преступник в Петропавловской крепости. Им, будто бы, было не велено ходить в одну камеру, но Чертков узнал как-то, что в ней содержится человек почти уж при смерти, но содержится ужасно — то не истопят камеру, в ней мороз, то натопят до 30°. По праву офицера, Чертков велел было перевести его в другую камеру, но подчиненные пришли в ужас, донесли высшему тюремному начальству; то его распекло и донесло на него куда-то еще выше. Его стали было еще распекать, но узнав, каков он есть, Чертков, немного смягчились и взяли с него слово молчать о том, что он видел.
19 июля. Вчера за обедом княгиня Урусова по поводу вегетарианства упомянула о Вл. Соловьеве, который тоже не ест мяса.
— Какой он философ, я не могу назвать философом человека, за которым так и бегают дамы. В нем нет ничего серьезного: это philosophe des dames22*.
Она заиграла из Шумана.
— Хорошо, очень хорошо, — говорил Л. Н., не переставая шить. Она заиграла из Мендельсона.
— Прекрасно, прекрасно! Браво! — говорил Л. Н. и начал просить сыграть этюды или мазурку из Шопена.
Княжна сыграла чисто, с выражением, даже с подчеркиванием. Она не скрывает, что муштрует себя в музыке сильно.
— Это чисто парижская манера играть Шопена, — говорил Л. Н., а сам все шил. Музыка, видимо, доставляла ему удовольствие немалое.
. Говоря о Соловьеве, княгиня Урусова упомянула за обедом о Каро84. Это тоже philosophe des dames. Он спиритуалист, но положительных мнений не имеет. Студенты — его враги, дамы и их мужья — друзья. Лев Николаевич сказал, что где Соловьев излагает чужое, там он хорош — и только.
Затем перешли к англичанам.
— Трое: Льюис, Милль и Спенсер, — сказал Л. Н., — для меня — ничто. Они, не хорошо сказать, но... это почти идиоты, только владеющие пером. Милль — он поймает мысль и начинает разводить ее, на ста страницах разводит то, что можно сказать на двух. Сюда, пожалуй, можно причислить и Дарвина. Теория его не нова. Кювье системой своей дал возможность разобраться во множестве научных фактов. Дарвин предложил метод «Россия и Европа», страстно любящий заниматься естественными науками, написал книгу, и, по словам Страхова, от Дарвиновой теории после его возражений не останется ничего85.
После обеда Л. Н., княгиня, я и другие пошли гулять на шоссе. Возвращаясь домой, заговорили о Vogué86. Графиня назвала его трусом: говорит не то, что думает, хочет пролезть в Академию87. Он любит русскую литературу, умеет говорить по-русски, женат на Анненковой. Попасть в Академию — общая черта французских литераторов, исключая молодых. Мопассан, например, говорил, что он пойдет скорей à maison de tolérance23*, чем в Академию.
— Хоть я и терпеть не могу русской литературы, — сказал Л. Н., — но какой она молодец по своей независимости! Во французских литераторах это почти общее. Александр Дюма — умница, талантлив, я все его читал — и вижу, что что-то в нем неладно, какой-то его ломает бес!
— Английские романисты, — говорил Л. Н., уже когда мы вернулись, продолжая разговор о литераторах, — лгуны больше французских: герои у них все паиньки... «Подражание Христу»88 — я от многих умных людей слышал, что это — превосходно, но признаюсь, ничего там не нашел. Замечательно, что переводил эту книгу Сперанский89 и теперь Победоносцев. Удивительный человек — этот Победоносцев! Со временем, когда жизнь его станет достоянием господ Бартеневых90, он будет личностью замечательной. Я познакомился с ним еще давно91. Это был молодой, длинный, сухой человек; он не произвел на меня особого впечатления. Потом рассказывал мне о нем Маликов92 с ним в переписке по поводу разного рода политических и религиозных вопросов. Когда было возбуждено дело 1 марта, Л. Н. писал к государю письмо и хотел, чтобы оно дошло к государю через Победоносцева. Победоносцев отказался. Он даже высказал Страхову, который вручил было ему письмо для передачи, что казнить, по его убеждению, надо, только не публично, а тайно. Он прислал Л. Н. письмо.
— Трудно сказать, сколько в этом письме он умел совместить ужасных вещей, — заметил Л. Н., — пишет бог знает что: например, мой Христос — не ваш Христос; ваш Христос — Христос мира и любви; мой — силы и власти93.
С письма по поводу 1 марта перешли к нигилистам вообще. Княгиня Урусова рассказала, что повешенный в прошлом году Ашенбреннер был, будто бы, сначала помилован; потом спохватились, подослали кого-то рассердить его, он ударил, и тогда уже его повесили94. Лев Николаевич сказал, что то же и он слышал, что и Мышкина95 точно так же подобными мерами довели до того, что тот, кажется, кого-то прибил ‹...›
—23 июля. Княгиня Урусова уехала, а Л. Н. нездоров, выходил в залу в вязаной фуфайке, суконных брюках, чего прежде за ним не водилось.
К вечеру ему, по-видимому, стало лучше. Когда мы пришли наверх пить чай, он что-то говорил о десятичной системе, а потом, не помню почему, перешел к русской грамматике. Согласился со мной, что мышь и мужского и женского рода, а занавес и два различных слова: занавес в театре (занавес взвился), а Пушкин будто бы написал ошибочно занавесь взвилась (но где?); занавесь — занавеска.
Дамы заговорили об уехавшей княгине Урусовой. Л. Н. сказал, что от нее осталась нехорошая отрыжка в смысле воспоминания. Она будто бы женщина развращенная, хотя по природе хорошая, на деле добрая, отличная мать: дочери ее до сих пор остались в смысле полной чистоты и невинности. Но парижская жизнь наложила на нее печать, а все стремления парижской жизни клонятся к тому, чтобы все, что есть мерзкого в человеке, нарядить в костюм хороших слов и выдать за что-то хорошее. Она тип замечательный, тип умной, энергичной женщины, очень хорошей по природе, но развращенной теми ужасными условиями, в которых она жила.
— Я видел, — заметил Л. Н. — в первый день за обедом, когда пришел Илюша, как она на него взглянула — я это знаю отлично! И с этого времени она мне стала противна. И — главное — после сама же сказала мне: «Какой у вас молодец Илюша!»
Со стороны дам пошли затем словечки вроде упоминания о графине Потоцкой, знакомой княгини Урусовой, которая живет тоже в Париже, с легким намеком на лесбийские игры.
24 июля
Лев Николаевич, окруженный барышнями, читал в зале корректуры вслух — статью по народному образованию.
— Справедливо, прекрасно! — сказал он, кончив читать, — нет, в самом деле, какая возможна программа? И кто составляет программы? В училище или в университете назначают столько-то часов, положим, истории... И выходит бог знает что. А делается это с целью не образовательной, а иной — вот как латинский язык: чтобы отвлечь от нигилизма.
— Благодарствуйте, Лев Николаевич, — говорил Л. Н., кланяясь другому, воображаемому Л. Н., — справедливо вы написали, хорошо!..
За чаем Л. Н. высказывал те же мысли, какие есть в его статьях по образованию. У магометан, евреев, в средние века в Западной Европе, в былое время у нас («Домострой») образование имело цель религиозную, можно было сказать, для чего оно, и стало быть имело право существовать. А теперь — какая цель образования? Никакой. Один говорит об образовании, что хорошо классическое, другой — реальное. Страхов очень умно писал, что развивает ум главным образом реальное.
— Я пришел к Каткову, — говорил Л. Н., — они там построили Лицей, спросил их о древних языках, и они мне дельного не сказали решительно ничего. Нынешнее образование — мода, как, например, шляпа — цилиндр, серьезных основ оно не имеет. Зачем насиловать ребенка в том, к чему он неспособен? Это все равно, что, например, ему вместо определенной свойственной ему пищи давать разные вещи — хлеб, свечку... Именно это-то и происходит в нашем образовании. Ребенок сам непосредственным чутьем знает, что ему нужно, и к тому и стремится. Формализм нынешних гимназий на душу учащихся действует убийственно. Я помню, когда я писал статью для «Ясной Поляны», в Туле был директор гимназии
Горяин96, человек хороший, свободомыслящий, — продолжал Л. Н., — он подбирал себе и людей такого же рода — Марков, мой оппонент, был в их числе97. Их бывшие ученики вспоминают о них с любовью; между учениками и учителями было живое единение, любовь.

Т. Л. ТОЛСТАЯ
Музей Толстого, Москва
И увлекшись воспоминаниями, Л. Н., чтобы характеризовать Горяина, рассказал, какой был с ним случай. Проезжал Тулой государь и давал обед. Приглашены были выдающиеся лица города, в том числе и директор гимназии Горяин, ошибкой. Приходит, его спрашивают, кто он. Адъютант извиняется, что директор не был в числе приглашенных, произошла ошибка. Уйти казалось Горяину неловким — это уронит его во мнении учеников. Оставалось до выхода государя и начала обеда всего несколько минут. Горяин замешался в толпу и, как только государь вышел, он сейчас же сел на первое попавшееся место. Кто-то остался без места, но все как-то сейчас же устроилось.
— Мне это ужасно нравится, — сказал Л. Н. — Сам бы я ни за что так не догадался поступить!
Речь зашла потом о «Ревизоре» и «Горе от ума». Последнюю комедию Л. Н. не одобрил за то, что она оставляет читателя равнодушным к действующим лицам: «Платон Михалыч разве — этот хорош. В Чацком что-то недосказанное; идея хороша — представить в этом ужасном обществе умного, свежего человека, декабриста. Когда нужно бывает в произведение вставить лицо, автор обыкновенно вставляет себя. Как противоположность другим лицам — Фамусову, Молчалину и другим — Грибоедову нужно было вставить лицо — он вставил себя: надо же было ему взглянуть на других лиц с какого-нибудь возвышения. Он взял себя, и в комедии вышло, что он есть он. Чацкий неопределенен. Но ведь и Грибоедов тоже был неопределенен. Я знал многих декабристов и помню, что о Грибоедове у них не сохранилось никаких традиций как о человеке чужом. Он с ними со всеми был знаком, играл на фортепиано — и только, а душевного участия к ним в нем не было. Оттого и Чацкий так же неопределенен, как и сам автор. Чтобы тип вышел определенен, надо, чтобы отношения автора к нему были ясны.
и другие. У кого нос закорючкой, тот и на чужом портрете сделает его до известной степени таким же. «Я помню, — продолжал Л. Н., — когда Крамской окончил мои портреты, был ужасно доволен и выставил их вот здесь в зале, прося меня самого выбрать, какой лучше. Я отвечал пошлостью, что не знаю своего лица. Он сказал: „Неправда, всякий лучше всех знает свое лицо”. И в самом деле, в этом случае в человеке есть какая-то внутренняя интуиция, он знает свое лицо».
«Тургенев раз сказал, что когда тема разговора бывает одна, это значит, что разговор интересен, а когда перескакивает с предмета на предмет, то неинтересен, — в заключение вечера заметил Л. Н., — у нас сегодня была тема одна, значит, разговор был интересен».
Я забыл сказать, что, разговаривая о народном образовании, Константин Александрович Иславин98 защищал существующую систему, а, возражая ему, я возвысил голос и стал чуть не кричать. Идя спать, я попросил у него извинения. Лев Николаевич нагнал нас и, услыхав, в чем дело, сказал, обращаясь к Иславину:
— Образование — самое священное, святое дело. Поэтому, когда говорят о нем или в видах правительства, или просто для разговора, это — кощунство. Это — самое святое дело, о нем надо и говорить серьезно.
. Утром пришел Л. Н. в рубашке, подштанниках, подпоясанный фартуком, как сапожник, и стал просить Сережу показать подошву.
— Покажи сапог, мне надо посмотреть, как срезать подметки, в какую сторону их скосить, — говорил он, осматривая его сапог.
А вчера всех, у кого обувь не в порядке, просил обращаться к нему.
Читал наделавшую шуму статью в «Pall Mall» о лондонском разврате («The maidentribute of modern Babylon»). Старо и все известно даже у нас в Москве. Прочел половину письма Оболенского99
Вечером приехали Стаховичи100. Я ушел к себе, сел просматривать «Газету Гатцука». Неожиданно приходит Л. Н.
— Что читаете, Иван Михалыч?
— «Газету Гатцука», Лев Николаевич.
— Я уже этот номер читал. А посмотрите, как славно сапожки я себе подшил — каблук широкий, покойный. Ужасно нравится!..
Он показал мне дурные рисунки к «Двум старикам». Я спросил, неужто они ему нравятся. Он ответил, что нет.
— Зато как вам удались эти «Старики», Лев Николаевич, — сказал я.
— Да, бывает временем — приходит такое расположение писать. А то как теперь, и рад бы писать, да нет, ничего не выходит.
26 июляère в своем духе, но осторожно, безнадежно. Сказал, между прочим, что дворянство осрамилось страшно. Теперь, когда возбуждено столько серьезных вопросов, желание его воротиться к екатерининским временам глупо. Одно время он хотел даже написать сказку, вроде Щедрина, о том, как был царь, у которого советники были все глупые. Стал другой царь, а прежние советники ушли куда-то. Начал другой царь спрашивать, каковы были советники у прежнего царя. Кто говорит, что они были глупые, а кто — нет. Тогда царь сказал: кто из глупых откликнется, тем по двугривенному. Все глупые сейчас же и откликнулись...
27 июля. После обеда целой компанией со Л. Н. во главе ходили в Засеку, бегали вперегонки. Лев Николаевич веселился, не отставая от других, шутил, острил, прыгал через платок...
Я пришел домой усталый. За чаем говорил со Стаховичем-père о драматическом искусстве, о Поссарте101, о его манере играть Шейлока. Он не видал Поссарта, но мои рассказы показались ему не новы. Он мне что-то рассказал о Марио102— но все это слишком мало, случайно, все это мало захватывает.
— Представляю себе, — прибавил он, — чем мог бы быть театр. Что, драма «Ян Гус»103 не с вами? — обратился он ко мне.
Я спросил, почему он вспомнил о ней. Он ответил, что думал, не выходит ли она из круга обычных драматических произведений.
К. А. Иславин прекрасно играл из «Дон-Жуана», «Гугенотов», Чайковского.
. За обедом Л. Н. заговорил о том, что такое чистота. Это дело нехорошее, потому что основывается на труде других. Люди хвалятся, что они чисты, но какая это чистота? Чистота может быть у крестьянки, которая вымыла, вычистила избу и т. д., но это не чистота, когда за деньги я заставляю работать на себя других.
— Есть люди нужные и ненужные. Я, Лев Николаевич, например, не нужен, а мужик Андриан104 на кухне, он нужен, потому что, не будь его, все станет: некому будет принести воды, наколоть дров.
Одна из дочерей Стаховича возразила, что на место Андриана найдутся тысячи других, а на ваше место...
— На место Юлии Пастраны105 тоже никого не найдется, — ответил Л. Н.
29 июля. Заходил к Л. Н. в кабинет, застал за работой, шьет сапоги на маленькую ногу, но не очень удачно — вышло не по мерке.
— Посмотрите, как все это сначала грубо, — говорил он мне, показывая подошву, — а потом, как все сделается, станет хорошо. Хороши тем эти сапоги, что это первые, которые я шил без посторонней помощи.
«Антигону», мне, помнится, понравилось несколько стихов. Я о них сказал Л. Н., да и забыл про то. Сегодня за чаем он меня спрашивает:
— Что ж, вы меня только подразнили греческой трагедией, а так мне и не сказали какие-то знаменитые пять стихов из «Антигоны»?
Я отвечал, что читал их уже давно и теперь, признаться, не помню. Оказалось, что и он в прежнее время тоже читал греческие трагедии, читал усердно, но ничего не помнит.
— Драматические произведения как-то у меня выходят из памяти, — сказал он. — Теперь потеряна девственность критического чутья. Можно поверить в свежесть, непосредственность суждений Сергея Николаевича (брата), Татьяны Андреевны (свояченицы), которые иногда поражают дикостью взглядов, но которые говорят то, что думают и чувствуют, но поверить тому, что говорит какой-нибудь Чичерин106 о Шекспире, Чичерин, который, в сущности, ничего не может чувствовать и любить, нельзя. Да и что в Шекспире? Прошлый год Усов (профессор) стал мне говорить, чтобы я прочел Шекспира по-немецки. Я стал читать «Макбета», читал внимательно, но не нашел ничего. Мотив, где Макбету приходится в своем деле раскаиваться, затрагивается Шекспиром несколько раз и затрагивается весьма слабо... Прянишников107 «Лире»: приходит какой-то король, ставят трон, потом войско вокруг, идут в степь — к чему это? Ничего не понимаю! Читать Шекспира и Пушкина, знать и говорить о них стало то же, что исповедоваться. Попробуйте сказать, что в «Отелло» ничего нет, вас каменьями закидают. Искусство шло все суживаясь и суживаясь и теперь наконец сошло на нет. А театр мог бы иметь важное значение, если б давал не «Ревизора» какого-нибудь, а что-нибудь более важное.
Он опять пожалел, что драма «Ян Гус» осталась в Москве: она, быть может, представляет нечто хорошее, потому что сюжет-то самый весьма значителен.
— Сожалею, что не прочитал ее, — заметил Л. Н. — Если бы теперь писать драму, следовало бы писать драму «Нигилист», сопоставить новое с окружающим старым, тогда бы драма могла захватить, заинтересовать всех. Но возможна, конечно, драма и с более широким сюжетом.
— «Газета Гатцука» — первая газета в мире, — сказал Л. Н., подходя после разговора о драме к столу, где лежали разбросанные номера этой газеты, — там я всегда нахожу самые интересные для меня вещи. Вот, например, сейчас нахожу: программа махди108.
И он погрузился в чтение, а я ушел.
. За кофе Л. Н. говорил, что черниговская история, о которой писал Оболенский в письме, сильно преувеличена. Файнерман передавал ее в более скромном виде. Кузминский (свояк)109 догадывается, что Плеве выехал в Чернигов по этому поводу. Лев Николаевич негодовал на либералов, которые раздувают подобные истории. Мы ведь все только и делаем, что сечем мужиков. Через это сеченье у нас есть и кофе и все. Приди сюда мужики и начни рубить дубки, под которыми мы распиваем кофе, мы сейчас же позовем станового, урядника и начнется то же сечение. Либеральничать в газетах по этому поводу — значит сваливать с больной головы на здоровую.
— Я помню, раз я был у Аниты Хомяковой110 — муж у нее либерал, славянофил, христианин. А на суде мужика приговорили высечь за то, что около пчельника он скосил хомяковскую траву, а у Хомякова гостиная, гобелены...
— Шаховской111 и Ольденбург112 — идут в Оптину пустынь. Вероятно, по случаю прибытия этих двух ученых юношей (Ольденбург кончил в Петербургском университете — он, кажется, специалист по русской словесности) Л. Н. разговорился про ученых и про кабинетную науку. Наука, которой все так гордятся, вещь очень условная. Мы знаем — и прежде была наука, в Греции, например, и после оказалось, что девять десятых этой науки — чепуха. Почему я должен верить, что нынешняя наука чем-нибудь лучше? А с этой нынешней наукой сопряжены выгоды — ученым давай лаковые ботинки! Если нужно звезды считать, так можно считать и в лаптях.
31 июля. Читал (в рукописи) повесть Л. Н. «История одной лошади»113.
— в такой восторг привела меня повесть! Он шил сапоги, сказал, что и ему жалко, что не кончено.
— Только я точно мертвый писатель — поправить дело нельзя. Но у меня для интеллигентной публики есть в этом роде — я жене обещал кончить начатый года три тому назад рассказ «Смерть Ивана Ильича»114. Это в таком же роде. А в рассказе этом намедни, когда я перечитывал, показалось мне ужасно смешно, как мерин говорит, что он в первый раз узнал, что у людей слезы соленые. Я сам-то забыл — писал уж давно, лет 25 назад — и показалось ужасно смешно. Рассказ написан был очень быстро, но так и остался и останется не отделан — нечего делать! В голове у меня — сколько помню — была ужасно ясная, живая картина смерти мерина, очень она меня трогала! Но параллель мне кажется немного искусственной.

Л. Л. ТОЛСТОЙ
Рисунок И. Е. Репина, 1891 г.
Зазвонили к обеду в третий раз. Мы с Л. Н. пошли и, помнится, по поводу собак, сновавших под столом между ногами, Л. Н. заметил, что собаки вообще дольше трех секунд не могут выдержать взгляд человека.
— Что-то тут есть, — прибавил он. — Я в Москве на Смоленском бульваре производил опыты. Там есть дом Филиберта, где огромные собаки лают из-за решетки. Я пробовал глядеть — и удачно.
После обеда все со Л. Н. пошли гулять в Засеку. Сережа потащил было и меня, но я около самой Засеки ускользнул в кусты и вернулся домой.
Погода прохладная; день солнечный. Кажется, горят леса: окружности задернуты точно дымкой, а солнце повисло на небе золотисто-красным кругом.
— пела Татьяна Андреевна, играл Константин Александрович и Сережа. Потом начались — я хотел сказать — танцы, нет, началась танцовальная вакханалия с таким громом и треском, что я удивлялся, как только выдержал пол.
5 августа24*. Утром за кофе Л. Н. сказал:
— В Германии есть поверье, что когда Пасха сойдется со днем — забыл какого святого, тогда начнутся всякие бедствия; 1886-й год будет именно такой: этот день сойдется с днем Пасхи.
— Что же будет? — спросила Татьяна Андреевна. — Революция?
— Нет, я нарочно; что будет, неизвестно. Но положение для того, у кого есть глаза, до такой степени очевидно натянуто — хуже чем перед отменой крепостного права!
За обедом Л. Н. спросил:
— Слыхали вы, Иван Михалыч, и вы, господа филологи (т. е. Шаховской и Ольденбург), такой оборот: гриб не любит, чтобы долго ходить?
Конечно, никто не слыхал — должно быть, он слышал от мужиков.
— горят леса, кто — торфяные болота. В воздухе слышится легкий запах гари.
Один из гостей рассказывал вечером, как во время коронации115 его чуть не прибили: он попал в свалку, и народ начал было уже каламбурить — мы за царя кровь прольем!
Кузминский рассказывал, что в Петербурге на Невском толпы народа безобразничали ужасно, так что полиция придумала хитрость — распустила слух, что умер Вильгельм и что на третий день иллюминации не будет. Обер-полицмейстера Грессера под предлогом качания чуть было совсем не испортили — тут тоже был каламбур действием.
— A practical joke25*, — сказал Л. Н. по-английски. — В религиозных сборищах этого быть не может — там тихо. Я помню, в Охотном ряду, где собираются спорить с раскольниками — прежде собирались в Кремле, а теперь там эти собрания уничтожены, споры теперь происходят при церкви в Охотном ряду, — священник там прехитрый: когда я был, он служил вечерню, потом читал что-то о Иерусалиме, измучил всех, всем не до спора — так, когда я там был, я заговорил, разгорячился, увлекся — военный писарь, умница удивительный, остановил меня, просил наблюдать порядок... А тут в собрании какой-то был концерт, стояли жандармы. Один увидал толпу, подъехал, стал разгонять. Какой-то мещанин — толпа не обращала внимания на слова жандарма — услыхал и говорит жандарму: «ты слезь-ка с лошади-то, да послушай, про что тут говорят». И жандарм отъехал, не говоря ни слова. Ужасно мне это понравилось!116
Нагрянуло начальство. Мужики сговорились никого не выдавать. Взяли двоих, и они должны были безвинно отсидеть в остроге год восемь месяцев. Семьи их, конечно, разорились.
Когда тюрьмы переполнены, арестантов пересылают из одной тюрьмы в другую. Из Тулы, например, пересылают в Архангельск, из Риги — в Тулу. Каково это мужику, которому, может быть, оставалось досидеть всего несколько дней?
Не знаю, почему в конце вечера зашла речь о женских курсах. Лев Николаевич говорил, что хорошо то, что они дают девушкам оттенок простоты: в них уж нет заботы только о воротничках и тряпках. Я возразил, что зато они возбуждают другие, по-моему, худшие интересы, с подкладкой — Поссарт, Сальвини, книжки. Он согласился и сказал, что если между курсистками и заслуживают внимания, так это — Армфельд117, Перовская и подобные им, но что другие, как только коснется дела, так и сходят на нет. Есть еще тип — безвестной труженицы где-нибудь в деревне, среди мужиков, как одна какая-то в Тульской губернии, — тип ужасно редкий. Бросить бомбу — тут еще может быть увлечение, но быть учительницей в селе где-нибудь, добросовестно делать там свое дело, любить его — на это нужна огромная душевная высота. Такие ужасно редки. Есть и такие, которые свихнулись благодаря науке.
— Юнге118 «Все это так, а вот Сеченов говорит, что это иллюзия. Ну, как Сеченов-то прав?» Что делать с такими — голова у них совсем не в порядке!
Прежде всего надо жить в любовном единении с людьми. В этом радость, в этом лучшее наслаждение. Это самая большая реальность. А рассуждать о том, что солнце может быть через миллион лет погаснет — это иллюзия. Вводить подобного рода рассуждения в такие вопросы значит уничтожать реальность, потому что и самое солнце-то иллюзия, а тем более рассуждения о том, что может быть с ним через миллион лет.
Татьяна Андреевна в шутку сказала, что пойдет в курсистки.
— А ты прежде узнай разные страшные слова, — сказал ей Л. Н., — например, психомоторные центры. Это очень хорошо: где просто говорят «душа», там ты говори: психомоторные центры.
— Если услышишь — говорят страшные слова, — сказал Л. Н. уж серьезно, — знай, что тут, кроме пустяков, ничего нет.
— Татьяна Андреевна хочет купить сыну своему Мише сапоги, да опасается, как бы не обиделся дядя Лева, который сшил ему сапоги, но неудачно. Лев Николаевич рассмеялся.
— Я хочу ему купить сапожки для двора, — говорила она, точно оправдываясь.
— А мои годятся не для двора, а разве .
— Но и твои сапоги годятся, пожалуй, для воздуха...
— Да уж для воздуха-то непременно годятся! — засмеялся в ответ Л. Н.
Днем сегодня он дал мне прочесть письмо Страхова119, буду ли я с ним согласен, потому-де, что я тоже критик, со Страховым схожусь. В письме указывается, что в «Упустишь огонь» не развито, почему один мужик прощает другого, и оттого впечатление слабо; такого же рода изъян находит он и в «Свечке». Сам Страхов занят теперь Ренаном и Тэном120 — очень уж много против них накопилось!
2 августа. Сегодня Л. Н. ушел с крокета с чайником и стаканом в кабинет, по крайней мере я видел, как он прошел куда-то мимо моего окна по саду в рабочем фартуке с проймами.
Опять полупрозрачная, молочно-дымчатая завеса над окрестностью; ближние леса чернеют плотной, густой, точно из металла слитою массой, очертания дальних чуть видны.
По поводу того, что графиня сегодня за чаем заговорила о процентах с 5000 р., Л. Н. передал, что́ рассказывал ему Прянишников, художник. У Прянишникова есть в Вологодской губернии брат, управляет заводом. Какой-то человек задумал с семьей идти богу молиться в Соловецкий монастырь. Отправляясь, он отдал на хранение свои деньги, тысяч тридцать, брату Прянишникова, который положил их в банк; и на них выросло что-то около полутора тысяч. Когда тот человек вернулся с богомолья, Прянишников-брат возвратил ему капитал и проценты. Тот понять не мог, откуда могли взяться еще полторы тысячи и спрашивает: откуда они? у кого-нибудь да взяты! И так и отказался взять их: не надо мне их — бог с ними! «В глуши еще сохраняется этот здравый взгляд на дело: если явились деньги, то у кого-нибудь они да взяты же!»
Скоро разговор принял литературное направление — коснулись критики, вероятно, по поводу прочитанного мною вчера письма Страхова. Я не очень лестно отозвался о критике, которая особенно в прежнее время в русском обществе имела такое значение. Не было и не могло быть критики в нашем смысле, когда в Греции рапсоды пели «Илиаду», у нас сказители — былины, не было и не могло быть потому, что и «Илиада» и былины и без того были понятны народу. Комментаторы и критики «Илиады» явились позднее, в период Александрийский... Если в литературе есть критика, какова русская, это явный признак, что литература не есть живое, органическое явление. У нас критика признается чем-то важным. Русская песня, сказка, легенда не требует комментарий, а «Моцарт и Сальери» требует...
Верны или нет были мои мысли, но Л. Н. тоже сказал:
— Я думал, толкуют про критику, что тут что-нибудь есть, старался понять, что тут важного, и оказалось, что ничего!
Кузминский спросил о каком-то Савихине121, который что-то написал. Это молодой человек, крестьянин, подражает Немировичу-Данченко, писателю, о коем не без насмешки как-то давно Л. Н. сказал мне, что у него, во всех писаниях, отпущен один мужик, обязанный забавлять читателя.
— Черткова нет, теперь все затихло, — сказал Л. Н., — вот приедет он — всех расшевелит! Надо, например, напечатать рассказ Беликова «Филарет Милостивый»122. Это молодой человек, православный, был на Афоне... Направлений только по-видимому много, а на самом деле их мало! Если спросить у «Русской мысли», «Отечественных записок», «Русского вестника» о направлении в смысле миросозерцания, они едва ли сумеют сказать, каково оно. А эти издания «Посредника» хороши тем, что тут есть одно цельное миросозерцание, которое обнимает все — и науку, и искусство, и государство, так что, когда и меня не будет, оно не уничтожится...
«Филарет Милостивый» очень плохи по обработке. Лев Николаевич сказал, что на это надо смотреть сравнительно.
— На Крестах123 есть изба, куда за копейку пускают ночевать — сходите! Странники лежат там — кто на нарах, кто на полатях, кто где, и их много. Раз я зашел туда, смотрю — двое что-то читают. Оказалось, что эти двое — странники, идут из Киева, а читают житие, кажется, Пантелеймона — какая это чепуха! Тут и исцеления, и царица какая-то, — словом, видно, что все построено на действительных фактах, но все перемешано, и в результате ничего!
— Вам бы обработать этот сюжет, — сказал я.
— Некогда.
— Как же, — вмешалась вдруг графиня, — а когда же сапоги-то шить?
Лев Николаевич, действительно, нынче весь день шил сапоги и, кажется, не писал ничего.
На другой день мы втроем — Сережа, я и Константин Александрович Иславин уехали в гости к Сергею Николаевичу Толстому в Пирогово, верст за тридцать. Из Пирогова я уезжал в Москву и вернулся в Ясную Поляну только к 10 августа.
10 августа. Поутру приходил Л. Н. ко мне и сказал, что Софья Андреевна меня и Сережу упрекала за долгое отсутствие. Пришел он с корректурными листами (статьи по воспитанию) и сказал:
— Вот так сочинения Толстого! Молодец Толстой! как все справедливо!..
И он прочел мне о том, что спрашиванье учеников есть насилие над ними, мучение, что экзамены вредны...
Затем я не видал его целый день. Говорили, что он уехал пахать. Он вернулся уже к вечеру. Я сказал, что к нему есть письмо.
— Да, это от того гимназиста, который был у меня. Их было трое124 — не при вас это было? Двое славные, третий попроще. Один из них настоящий ‹?›, а другой революционер — высокий, с правильным лицом, все молчит; очевидно, у него что-то есть, и ему все хочется то, что он слышит, намотать на что-то свое. Он старше первого, в восьмом классе, но отстал от него и чувствует инстинктивно, что в том есть что-то такое, на что можно опереться.
— Какая это славная вещь — крестьянская работа! — говорил он мне за вечерним чаем. — Ни один мускул не остается без упражнения! Иное дело — пахать, иное — косить, молотить, подавать. Везде упражняются разные мускулы. У меня теперь немного ломит руки.
Я свел речь на литературу и спросил, не от Dupuy125 ли было к нему письмо из Парижа. Оказалось, было и от Dupuy.
— В его книге я читал про себя, и мне понравилось то, что он рассматривает автора в связи с его убеждениями. У Страхова это не то; это есть только у Громеки126 — у него бог знает какая каша в голове!
О Мопассане Л. Н. отозвался, что это громадный талант. Я не был знаком с его сочинениями и спросил:
— Если талант характеризует себя особенною точкой зрения, то какова же она у Мопассана?
— Никакой особенной, но бывают эпохи, когда это-то именно отсутствие всего ложного предвещает нечто новое. Мы это знаем по себе — у нас были люди, у которых тоже не было особенной точки зрения.
Он рассказал затем содержание одного из романов Мопассана, где выведена девушка, вышедшая замуж за аристократа. Он красив, с блестящими глазами, серьезен; она влюбляется, выходит за него замуж. Мало-помалу оказывается, что он и развратен и груб, и она должна все переносить127
— Когда запутаешься, так лучше, удобнее всего поставить этот вопросительный знак в цветах, который что-то заставляет предполагать, но, в сущности, не значит ничего.
О Доде Л. Н. сказал, что его не любит, а о Золя, что он хотя и талант, но писальная машина.
В Ясной Поляне возникали нередко словечки, которые могли бы привести в недоумение даже опытного человека. Сегодня я слышал, например, об . Почему формы жизни, которым придают главное значение, получили название «анковский пирог», мне так и осталось неизвестным, не говоря уж о странном эпитете «анковский»128.
— Когда говоришь о самых важных, существенных вопросах, то приходится слышать толки о формах жизни, которые признаются как бы за нечто самое священное — тогда анковский пирог дурен, — сказал Л. Н. в ответ на какое-то замечание Татьяны Андреевны, не имевшее никакого отношения ни к Золя, ни к литературе вообще.
его положение, но заговорил слабо, неубедительно и свел речь на другое. Среди молодежи лет пятнадцать назад появилось стремление вырваться из условий окружающей среды. Гимназист, приславший сегодня письмо, и Лазарев129 это показывают. Лазарев — сын мужика, который был вроде управляющего. Его сына приставили к господам для охоты, вместе с барскими детьми стали учить. Он стал учиться — чего они не поймут, поймет он. Дальше — больше; способности, видят, большие; отдали его в гимназию. Он учился там до 7 класса, а потом вместе с другими товарищами за 2 месяца до экзамена заявил директору, что учиться больше не желает, вышел и отправился в народ. Он судился в процессе 193-х, сослан на родину под надзор, а потом за «дурное направление» отправлен в Сибирь на поселение на 3 года. В Москве он целый почти год сидел в остроге. Лев Николаевич был у него раза три. Бодрей он никогда себя не чувствовал, чем в это время. Он говорил, что в деревне ему уж становилось тошно, а тут впереди ждут новые впечатления, новая жизнь. Он просил достать ему компас. Лев Николаевич достал и спрашивает: «Для чего вам это? уж не для побега ли?». Он ответил, что на пути все может быть — этапные начальники бывают всякие, пожалуй, бить, притеснять станут.
Так кончился разговор о том, хорошо ли, что Файнерман хочет креститься.
11 августа. Видел Л. Н. за завтраком, спрашивал, как идет его литературная работа.
— Писать не пишу, но много обдумываю. Напал я на предмет-то такой — на вопрос о государстве. У меня бывают настроения периодами: бывает настроение осеннее, летнее, зимнее, весеннее. Вы застали меня здесь — я работал и летом. А прежде, когда я писал эти «Войны и миры», я думал, что летом делать ничего нельзя, все охотился и писал только по зимам.
Видел сегодня Файнермана, по-видимому, приехал креститься.
Сережа за обедом, труня надо мною, сказал, что я тоже острю:
— Я сказал, что на свете все чепуха, а Иван Михайлович подхватил и сказал, что, стало быть, чепуха и то, что вы говорите.
Лев Николаевич засмеялся:
— Вот что значит филоло́г (он так и сказал филоло́г) — знает все силлогизмы. Упражнённый!
В кабинете я нашел «Ill. ustrated London News» и спросил у Л. Н., откуда это у него.
— Это присылает Тане miss Lake (бывшая гувернантка). Я сегодня все просматривал его: там свадьба Беатрисы etc. ... Я иногда думаю: хорошее сочинение можно бы написать — сделать анализ номера какой-нибудь газеты, хоть «Русских ведомостей», например, разобрать его весь: распоряжения правительства, известия о новоизобретенном составе, — всю эту чепуху130.
За чаем кто-то помянул про смерть.

ТОЛСТОЙ
—1887 гг. по фотографии 1884 г.
Институт русской литературы АН СССР, Ленинград
— Когда я был молод, — сказал Л. Н., — мне страшно было лишиться всего окружающего, страшно, как перед темнотою — светло, светло, и вдруг темнота! Страшно казалось лишиться света, чувства жизни, дыхания...
Не помню почему перешли к речи об отношении родни в крестьянстве. Л. Н. и тут свел дело на религиозную почву.
— Теперь по всей России стон стоит от жалоб родителей на то, что дети их не почитают, а мужей — что жены от них бегают. Этого прежде не было. Корень в том, что ослабело религиозное начало. Самое живое-то начало в религии высохло, и остались только крестины, молебны и пр.
жить теперь. Вся квартира состояла из одного какого-то коридора, дверь с лестницы вела прямо в столовую, кабинет самого владыки был — негде повернуться, барышни спали на каких-то пыльных, просиженных диванах, нынешний англичанин m-r Water-closet назывался тогда еще по-русски. Теперь это было бы немыслимо. Немыслимо, чтобы к доктору больные ходили по животрепещущей лестнице, проваливались, чтобы в комнате висела люстра, о которую мог задеть головой даже среднего роста человек, так что больной, если не провалится на лестнице, то непременно расшибет себе голову о люстру — все это теперь считается невозможным, а это-то и есть роскошь. Мужик Тимофей Филиппов, дворник131, раз жаловался, что пошла роскошь да дороговизна, а, отдавая дочь, сам задал бал в 7000 рублей. «Ваш покойный батюшка, — говорил мне один, — не теснил еще нас, дай бог царство небесное, а определил оброк со двора 40 р. ассигнациями. Приходит мой отец домой, задумался и говорит: 40 рублей, а где их выберешь? А нынче 40 рублей нипочем!..»
В четверг приедет Чертков с Бирюковым. Илюша сказал, что Бирюков похож лицом на меня.
— Нет, не лицом, — возразил Л. Н., — а всей манерой напоминает вас: человек он большого образования, учился в Морской академии... Ну, да я сказал, что он с вами похож, так мне неловко хвалить...
Лев Николаевич эти два дня как-то особенно мил, любезен, добр.
. Вечером читал корректуры из «Войны и мира». Лев Николаевич сел поодаль и слушал, как я читал графине про Пьера и пожар в Москве.
— Представьте, ничего не помню. Мне читают, как Пьер спасает девочку, а что дальше — решительно не знаю, — сказал Л. Н. во время чтения. — Чтобы представить суматоху, надо, чтоб Пьер не нашел ее родителей.
Он ушел, а потом, когда я дочитал, он вернулся с былинами Алексея Толстого.
— Ненавижу это — хуже выдумать нельзя! — сказал он. — Ничего не может выдержать ровно — начнет высоко, а кончит куплет уж водевильно. У Некрасова — у того тон всегда выдержан от начала до конца, у того чутья больше...
отрезал:
— Да Лев Толстой, а не Алексей Толстой!..
— У Диккенса, Щедрина есть манера говорить не самому, а вместо себя заставлять говорить какое-то комическое лицо, — заметил Л. Н., видимо не одобряя этой манеры. — Это же есть и у Алексея Толстого. Тургенев, Пушкин — те говорили от себя. Пушкин ясно, чисто говорил от себя — как я есть Пушкин Александр Сергеич, говорю, как дал мне бог...
Затем Л. Н. прочел нравящееся ему стихотворение Некрасова «Эй, Иван». Стихотворения Некрасова первого периода отзываются фальшью, в последних он нашел истинный путь. Он породил целую толпу подражателей, например, как Златовратский.
— Я не могу его читать! Человек он ничего, хороший, но подкладка всей его гражданской скорби — литературная слава. Это нехорошо. Я помню, у нас на Козловке провалилось полотно железной дороги. Взяли рабочих из Бабурина. И вот в какой-то газете явилась корреспонденция, где в ужасных красках описывался быт бабуринских крестьян.
вещь...
Сегодня, когда Л. Н. пахал, к нему пришли по какому-то делу два мужика. Он говорит им: «Погодите, кончу пахать, тогда потолкуем». А мужик постарше отвечает: «Давайте я покуда попашу, а вы с ним переговорите».
— Так это было просто, что оставалось только согласиться, — сказал Л. Н. — И ничего, ни слова не спросили, зачем я пашу. Так им это кажется просто; пашет человек, ну и пусть его пашет! Ах, как дурно все мы делаем, что не пашем!
13 августа. Вечером графиня стала бранить Каткова подлецом. — За что ты его бранишь? — спросил Л. Н. Графиня сказала, что за поступок его со Л. Н., когда печаталась «Анна Каренина».
— Действительно, тогда вышло смешно, — сказал Л. Н. — Я писал роман, посылал в Москву, мне присылали, вот как теперь, корректуры, дело шло хорошо. Я уж кончал работу, видел, кажется, и самого Каткова, говорил с ним, что если он не напечатает окончания у себя в журнале, я его напечатаю отдельно. Потом выслал рукопись. Жду день — ничего, другой — ничего. Пишу Костеньке (Иславину, который у Каткова был секретарем редакции) — ничего, посылаю телеграммы — ничего. Еду сам в Москву. Ужасно я был взволнован — молод еще, глуп был — ужасно потому, что — большая работа, окончание всего, что было задумано. Увидался с Костенькой. Он говорит мне, что все это — ничего, торопиться нечего, все устроится само собой. Я поверил, уехал, жду неделю, две, три — ни слова. Тогда я потребовал рукопись назад. Мне возвратили, и она была напечатана отдельно.
— Но ведь Катков по рукописи, кажется, сделал выборку и напечатал в «Русском вестнике», — заметил я.
— Да, он это сделал132.
15 августа. Кузминский (вероятно) привез в Ясную Поляну новый роман Золя. Лев Николаевич читал его.
— Ну, «Germinal» твой плох, — сказал он Кузминскому, — такая богатая тема — и обработана так плохо! Пропасть ненужного, ложного. Про рабочего, например, который кашляет будто бы чуть не 30 лет какою-то чернотой, — это ложь. Тут я вижу во всем Золя, который выдумывает, но не вижу картины.
Кузминский сказал, что дальше у Золя пойдет в духе Л. Н.
— Я думаю, уже не читал ли он твое «В чем моя вера?»
— Весьма возможно, — сказал Л. Н.
Затем началась ругань по поводу вегетарианства. Софья и Татьяна Андреевны упрекали Л. Н. за то, что он сбил всех девочек с толку, научил их не есть мясо — они едят уксус с маслом, стали зеленые и худые... Лев Николаевич оправдывался. Он-де тут, в сущности, не причем; он только был рад пробуждению сознания, стремлению испытать лишение во имя убеждения; поступки-то по убеждению и составляют главное отличие человека от животного. Он не думал, что из-за этого может возникнуть такая неприятность...
— по адресу самого Л. Н., который посмеивался тихо в сторонке. Словом, было много шуму из ничего ‹...›
16 августа. Телеграмма за телеграммой — едут гости.
Вечером я увидел приехавших — и Черткова и Бирюкова. Чертков — длинный, худощавый, бледный человек, во всей его фигуре как будто что-то мертвенное, сухое. Такие бывают пасторы у немцев. Я слушал, как он говорил с Л. Н., — скука! «Два старика», оказывается, цензурой запрещены. Лев Николаевич стал придумывать, куда бы их послать.
— В «Вестник Европы» или в «Русскую мысль»? Куда, Иван Михалыч, по-вашему? — вдруг он спросил меня, точно я и в самом деле мог ему посоветовать.
«Русскую мысль» лучше.
— Нет, лучше по-моему в «Ниву» — у ней огромный круг читателей, и есть средства. В «Северном вестнике» боюсь — они, пожалуй, бедны средствами, а мне обыкновенно платили по 500 рублей за лист...
Наставал срок моего отъезда, и мы, молодежь, на прощанье пошли гулять — ходили по парку, аллеям, на пруд; погода стояла чудесная.
Часов около двенадцати я с гуляющими распростился и пошел спросить, готова ли лошадь. Смотрю, навстречу Л. Н., графиня, Чертков, Бирюков, — вышли тоже прогуляться.
— Вы идете на конюшню, постойте, пойду и я, — сказал Л. Н., — а то кучера теперь спят, и вы не добьетесь толку.
— со Л. Н. мы даже расцеловались — и утром был уже в Москве.
______
Толстые в этот год приехали в Москву, кажется, только к ноябрю133 По крайней мере первую весть о них подал мне переписчик Александр Петрович в начале ноября. Он явился ко мне, и оказалось, что летнее бездействие Л. Н., за которое упрекала его графиня, было мнимое, было только затишьем перед периодом творчества. Концом лета, видимо, кончилось и летнее настроение Л. Н.; он бросил шить сапоги и написал произведение, о котором в августе я не слыхал ничего даже в намеке, а он не любил скрывать то, что пишет.
Произведение это называлось «Сказка об Иване дураке». Александр Петрович мне ее принес. В ней с такой удивительной силой, с такой рельефностью выражены были теоретические взгляды автора, что я пришел в восторг. Я читал ее и другим — приходили в восторг и другие. Правда, слышались голоса про основную идею, но дивная форма одолевала все.
«Двух стариков», о которых слышал в августе, что они запрещены. Александр же Петрович сообщил кое-что и о Л. Н. Какой-то молодой человек, начитавшись новых его произведений, отказался от присяги и военной службы134. Дело дошло до министра, который и распорядился отослать его в Закаспийский округ, находящийся на особом положении. Мать и брат его бросились хлопотать, писали будто бы и ко Л. Н. Но что Л. Н. мог сделать? Заставить отказаться от присяги и службы он мог, но утешить мать и брата — чем мог бы он утешить? И вот он целые полчаса плачет навзрыд...
В конце ноября случайно я встретил на улице и его самого. Увидав меня, он окликнул с извозчика и, видимо, обрадованный, выскочил из саней. Он ехал в фотографию сниматься. Сообщил, что Софья Андреевна только что вернулась из Петербурга. «Сказку об Иване дураке» и «Двух стариков» разрешили.
— Я рад, что разрешили сказку, — сказал он, — она будет напечатана в двенадцатом томе, оттуда проникнет в народ! Вы спешите, я тоже спешу. Прощайте, заходите!
Я зашел к Толстым через день и застал у них Черткова и Константина Александровича Иславина. Несмотря на то, что был уже седьмой час, они еще только обедали. Я присел к столу, разговор шел о последних произведениях Л. Н., ради которых графиня ездила в Петербург. Она говорила, что если сказку распространять, то те, которые дозволили ее печатать, пожалуй, пронюхают и запретят.
— Софья Андреевна ужасно этим занята, это на ее попечении — лучше сказку не пропагандировать.
Я понял, что двенадцатый том еще не готов.
— Что поделываете, Иван Михалыч? — спросил он затем. — Не открыли ли чего? Я, представьте, за все это время не открыл решительно ничего. Прежде я мог перед вами похвалиться Джорджем, Арнольдом, а теперь — ничего. Перечитываю только Диккенса.
За все это время он был занят литературной работой, и немудрено, что ничего не открыл, я знал, как он работает.
— Замечательна в сказке отделка, мельчайшая филигранная работа, — говорил мне К. А., — но про основную идею Софья Андреевна справедливо заметила, что не будь науки, искусства, словом, того, представитилем чего является черт на вышке, не было бы и самой сказки, самого Л. Н.
В это время подошел к нам и сам Л. Н. вместе с Чертковым.
— И откуда вы только взяли своего черта на вышке? — сказал я ему.
— Мне пришло в голову на купальной дороге как-то вдруг, — отвечал он, — и я сам расхохотался!
«Аполлон Тирский»135. Стали читать. Начал Л. Н. — скука и чепуха, продолжала графиня — то же, за графиней читал я — то же. При всей своей снисходительности Л. Н. отозвался о повести, что она скучна и непонятна; я сказал, что она годится разве в печку; не понравилась она и Черткову.
Графиня была занята своим, а Л. Н. своим — это обнаружилось, когда мы сели за чай. Он заговорил о Файнермане, что это крепкий человек, сжег за собой все корабли.
— Вы знаете, — обратился он ко мне, — к нему в Ясную Поляну приехала его жена, типом похожая на курсистку. Я наблюдал их отношения — он держал себя по отношению к ней так, что коли, мол, хочешь жить, как я, я буду с тобой жить, он был к ней даже несколько суров!
Файнерман, видимо, мало кого еще занимал, и мы было заговорили о чем-то другом, но Л. Н. продолжал свое.
— Какой человек — этот Файнерман! Он даже обовшивел, а это хорошо. Обовшиветь у нас считается чем-то стыдным, а вы знаете — мужики говорят, что вошь нападает с тоски, с заботы, — это обыкновенное поверье... Я помню, мне один мужик прелестно рассказывал, как он выучился читать. Бывало, говорит, пойду пахать, пропашу борозду, остановлюсь, лягу на траве и начну твердить. Приду домой, надо с бабой спать ложиться, а я все твержу. Да что ты, черт, уёму на тебя нет! а я все свое... Так что же? Даже обовшивел весь!..
Я не курю, но К. А. Иславин, добродушный, веселый, легкомысленный старик, стал подтрунивать надо мною в гостиной, точно я и вправду завзятый курильщик. Кажется, это и самому Л. Н. дало мысль покурить. Он встал, и мы, кроме К. А. Иславина, вышли в переднюю.
— Я теперь потому вышел в переднюю, что не хочу курить в столовой, да жарко там, — заметил Л. Н.
— Да вы уж лучше не курите вовсе, — сказал я.
— Это шаг к тому.
— А вы не курите? — спросил меня Чертков.
— Нет, не курю — Константин Александрович шутит.
— Удивительный это человек — Константин Александрович! Жить весь век в пустяках, сладко есть, пить, даже блудить, — и все это в приличных формах. Это ужасно! — сказал Л. Н.
В это время в переднюю вошел посыльный из типографии и подал корректуры. Лев Николаевич, перейдя в столовую, стал читать с Чертковым корректурные листы «Азбуки», а я — листы «Так что же нам делать?», те главы, где говорится про науку и искусство.
После чтения я не удержался — сказал, что главы эти возбуждают и будут возбуждать возражения, но что сказка с чертом на вышке хороша именно тем, что когда дойдешь до каланчи, то возражений не бывает, а все только смеются от души136.
— Не все, — сказал Л. Н., — многим она не понравится. Страхов, например, не хвалит ее137. Странный это человек Страхов! Деревья есть такие: дерево стоит, но середины в нем нет — она вся выедена. Так же и Страхов: в нем вся середина выедена наукой, философией.
Затем Л. Н. принес мне четыре картинки сытинского издания138, показывал превосходный рисунок Репина «Вражье лепко, а божье крепко»139 и рассказал, какие видел он у Черткова фотографии с бывших на выставке в Вене картин Верещагина. Первая изображает Христа, занятого плотничной работой, а его мать Мария окружена его братьями и одного кормит. Вторая изображает воскресение Христа: вдали бегут воины, а из дыры, с испуганным лицом, украдкой вылезает Христос; третья — казнь Рысакова и Перовской: спереди солдаты спиной к зрителю, вдали виселицы; четвертая — расстреливание англичанами индусов; к пушке привязан старик, вдали идет ряд таких же пушек и привязанных к ним людей140.
— Первые две картины — прямо скандал, в них ничего нет, — заметил Л. Н. — Я знаю, это школы знаменитого богослова Шлейермахера141. Третья — тоже: не будь подписи, ничего бы тут нельзя было и разобрать, художнику следовало бы изобразить весь ужас этого дела, а у него и солдаты, смотрящие на казнь, поставлены к зрителю спиной. Но четвертая — превосходная. Если что и удается ему — это изображение ужаса войны, тут он мастер, и картина достигает цели!
— Я уж вам говорил, что я не открыл ничего, — сказал он мне немного погодя. — В последнее время я только перечитывал романы Диккенса — «Крошка Доррит», «Холодный дом». По-моему, Диккенс еще вполне не оценен. Мы Диккенса не знаем, но какая это сила! Прежде эти романы мне казались тяжелы и скучны, но теперь — нет. Что это за силач! У него на сцене десять лиц, и вы, читая, ни про одно не забываете: каждое так и бьет вам в глаза! Все эти английские учреждения являются у него в ироническом свете, все одето такой иронией!.. Герои у него, по-моему, не лорды и т. п., а ободранные, с лицом попорченным оспой, — люди — вот его настоящие герои. Его роман «Оливер Твист» — прекрасный; я помню, я несколько раз рассказывал его детям и всегда имел успех.
— Англичане его упрекают, что он больше бил на внешность, на внешние смешные стороны людей, — заметил Чертков.
— Он описывает одного господина, господин этот с первого взгляда казался красив, но потом являлся другим: когда смеялся, усы его опускались как-то вниз, губы поднимались вверх; когда сидел — подправлял под себя подушки... Словом, по описанию внешности вы прямо видите, что он и зол, и жесток, и самовластен, — вот вам и описание внешности!
— Вы имеете понятие о Фрее? — вдруг обратился Л. Н. ко мне.
Я сказал, что да.
— Он был у меня в Ясной Поляне — что это за интересный человек! О чем ни заговорит, на все у него совсем новая точка зрения, так и видно, что приехал бог знает откуда, из той страны, где все пробуют, нельзя ли как еще лучше жить. Он познакомил меня с позитивизмом, и мы сошлись
— Что же тут общего? — спросил я.
— Видите, позитивизм есть разный. Есть научный — вот это Литре142143, а то есть религиозный, воззрения которого близки к моим! И какой это сильный человек! Жена у него — та едва ли не крепче его144. В Америке они жили бог знает как — в сарае из дырявых досок, где не бывало выше 6o, да с двумя детьми. И она — ничего. О ваших знакомых, живших в Америке, он не высокого мнения, например, о Маликове, но о Василии Ивановиче отзывается с уважением. Василий Иванович Алексеев, — обратился Л. Н. к Черткову, поясняя, — был у нас учитель, ездил в Америку, потом вернулся назад... И как это странно, он из небогатой дворянской семьи, отец у него помещик, женат на крестьянке; в семье у них был этот старинный дух — читались дома жития святых. Эти жития, как говорил мне сам Василий Иванович, определили весь склад его мысли, сообщили ей религиозный оттенок. С ними он пошел в университет, с ними попал на революционную деятельность, с ними остался и теперь.
— Я помню, — сказал Л. Н., когда речь перешла на современные воззрения большинства — я помню, я приехал с Кавказа в Петербург диким офицером145 ́, бобе́, бобе́, другой, даже не дослушав, сейчас же начинал отвечать ему своими бобе́, бобе́, бобе́. Я и сам заразился этим бобе́, бобе́... Им у меня попорчен, например, рассказ «Люцерн», где гармония мира и т. д. А теперь ото всего этого на моих глазах не осталось ничего, точно никогда не бывало. Если и осталось, так разве у историков, там, пожалуй, еще существует гегельянство с бобе́, бобе́, бобе́, но и то уж стало переходить в эволюционизм. Пройдет еще немного, и от этого не останется тоже ничего, точно всего этого никогда и не было.
Я и Чертков согласились.
— Я рад, что мне удалось написать последние главы146, хоть и с трудом, — продолжал Л. Н. — Пока я не написал их, не коснулся науки, все как-то был не уверен в себе, все как-то думалось: а ну, как это не так? А теперь, как написал, у меня стало твердо — так ли, не так ли, а я над этим поработал, до большего и лучшего мне уж не доработаться, с тем уж, видно, и умереть придется. Помните, Руссо, кажется, в предисловии к «Vicaire Savoyard»147 говорит прекрасно в этом именно роде.
— Вся суть современных воззрений на отношения людей между собою — в разделении труда, — сказал в заключение Л. Н. — Это основа. Это вы услышите ото всех: один должен делать одно, другой — другое, а в этом-то и есть громадное заблуждение!
Было около 11 часов; уезжавшая куда-то графиня уже успела вернуться.
— Как мне ни жалко с вами расставаться, а делать нечего — надо: надо по принципу спать идти, — сказал Л. Н., простился с нами и ушел.
Посидев немного с графиней и гувернанткой, я откланялся и тоже ушел вместе с Чертковым.
‹1886›
Затем я Л. Н. не видал до начала января 1886 г. Попал я к Толстым случайно.
У них был В. Ф. Орлов и Ге — отец и сын148. Л. Н. познакомил меня сейчас же с обоими. Ге-отец был старый, лысый человек, с блестящими глазами, сухой и тонкий. В тот вечер он страдал флюсом — подбородок был укутан шарфом.
Когда мы уселись, Л. Н. спросил, давно ли я видел Николая Федоровича Федорова. Я сказал, что давно.
— А он нынче, как я слышал, у Пругавина149, собрались читать статью Льва Толстого «Наука и искусство»150, о которой я понятия не имею. Но мне все-таки интересно было бы знать его мнение, потому что оно мне дорого.
С графиней сидели какие-то дамы пожилые или девицы, очевидно, почитательницы Л. Н. Кажется, по их почину Л. Н. предложил читать очерк Глеба Успенского в «Русской мысли»151.
Все перешли в зал. Стала читать графиня. С первых же строк мне стало скучно. Лев Николаевич слушал-слушал и тоже сказал:
— Нет, грех Глебу Успенскому так писать. Вот сколько уже прочитано, а я все еще не знаю, как этот мужик жил... Он просто тут сочиняет. Баба, если муж ушел на сторону (в повести мужик ушел в извоз), не станет жить одна — незачем ей; она тоже обыкновенно уходит в люди. Да такого житья у мужиков я нигде-то не видал. Нет, тут он просто сочиняет.
Ге подтвердил.
Наконец, ко всеобщему удовольствию, повесть Успенского кончилась. Пошли садиться за чай.
— Что значит, когда человеку нечего сказать путного, — сказал Л. Н. — Все осудили без исключения. А ведь нельзя сказать, чтобы Глеб Успенский не умел писать, техника у него громадная. Я бы предложил прочесть рассказ Хмелевой «Кружевница»162. У Хмелевой нет почти никакой техники, мало уменья писать, она никогда до сих пор и не писала, но если сравнить с этой вещью Глеба Успенского, это как небо от земли!
за пьяницу, меня тронуло. В общем было скучно, но все же лучше повести Глеба Успенского. После чтения я разговорился с Ге-отцом.
— Какой это силач! — сказал он про Л. Н. — Он вчера мне читал свой рассказ «Три старика»153 — удивительная вещь! Я и приехал-то затем, чтобы повидаться с ним, а то ведь почти постоянно живу у себя в имении в Черниговской губернии.
Он повел меня в кабинет Л. Н., где он жил.
— Пойдемте, я вам покажу свои эскизы к «Чем люди живы»154.
— Куда вы? — спросил Л. Н.
— Вот хочу ему показать свои рисунки.
— Да, да, ему надо показать. Пойдемте все вместе.
В кабинете Л. Н. стоял мольберт, на нем были рисунки к рассказу, по стене над диваном тоже. На первом рисунке — ангел в тот момент, когда он не хочет взять душу у родительницы; на втором — ангел, стремглав летящий с неба на землю, на третьем — сцена у часовни. Всего было девять рисунков.
— Я целый год занимаюсь этим, — сказал Ге. — Долго обдумывал и думаю, что это к делу идет. Важно уловить надлежащий момент в рассказе. Вот мне вчера пришел в голову еще эскиз, который, по-моему, нужен. Это — сцена, когда мужики собрались на сходку, толкуют, что́ делать с ребятами, и ничего не выходит, а баба взяла обоих малюток и дает им грудь.
— Когда я увидал работу Николая Николаевича, — сказал Л. Н., — для меня ожила и моя-то собственная работа, я ее как будто сызнова стал переживать. Я не знаю, куда девать музыку, но это, — он указал на рисунки, — это необходимое дополнение к рассказу вообще. Писатель что-то создает, но картины-то собственно еще нет, есть только ее возможность, и вот эту-то возможность художник осуществляет на самом деле. Вот и Ге (он в это время вышел зачем-то из кабинета) рисует «Тайную вечерю»155, и у него есть собственный текст, который дает мысль и характер картине. У него и к этим эскизам есть свой текст. Вот смотрите (эскиз — ангел в сиянии, его окружают люди), какой смысл этого рисунка: если бы это было какое-нибудь греческое божество, то надо было бы его поставить вдали от людей и так, чтобы на людях виден был страх перед ним... А здесь божество изображено в сиянии среди людей, и проявляется-то оно тогда, когда проявляется в людях любовь, а не страх. А вот смотрите — ангел летит стремглав с неба: это для него (т. е. для Ге) значит сомнение, которое как только залетит к свету, к истине, так сейчас же и падает вниз. У него свой собственный текст.
Когда Ге вернулся, мы заговорили о Щедрине. Я сказал, что у него нет нутра, нет живого центра; оттого-то, при громадном таланте, из его писаний ничего не выходит.
— Ничего не выходит и не выйдет, — сказал и Ге, — у него нет этого центра и не будет. Он никого и ничего не любит, я ведь хорошо его знаю. Есть такие люди, у которых этот центр завален бог знает до чего... Вот и Тургенев — у него тоже не было этого центра. Есть такие люди.
Когда речь зашла о современном обществе, об интеллигентной его части, я откровенно высказал свое мнение, что иногда оно меня поражает дикостью взглядов, низменностью интересов.
— Вы не знаете Апухтина? — спросил меня Л. Н. — Апухтин теперь это — светило, про него теперь говорят. Я помню, я был еще молодым и раз видел тонкого, бледного кадета. Это-то и был Апухтин. После он где-то служил, жизнь вел бог знает какую, писал бойкие стихи между прочим... Вдруг теперь мой Илюша приносит мне его стихи, которыми восхищается. Они даже напечатаны, кажется, в «Русской мысли»: «Год в монастыре»156.
Тут я вспомнил, что летом действительно видел у Илюши тетрадку с этими стихами и даже кое-что читал.
— Этот Апухтин где-то потом служил, жил бог знает как, ел, пил, растолстел до того, что еле умещается на извозчике, заражен содомским грехом — и пишет «Год в монастыре»! Я читал их. Это что-то вроде Пушкина, но форма без сравнения ниже. До Пушкина формы не было, Пушкин ее дал и всех ослепил формой. А тут — ничего! Слова — и поэзии никакой! И его переписывают барышни теперь, как прежде Пушкина, спрашивают, читали ли вы Апухтина, восхищаются, а в нем нет совершенно ничего! Людям, очевидно, нужна тут только забава — ты нас потешь и оставь в покое!
— Приходите, — сказал он нам, — мне хотелось бы прочитать вам мои последние вещи... Это бы надо поскорей, а то я думаю уехать в Ясную Поляну — как-то тяжко тут!
Мы расцеловались с ним и ушли.
На масленице я видел на гулянье Софью Андреевну с ее, как она называла, «малышами» Андрюшей и Мишей, приглашала меня. Я пришел к ним вечером в тот же день.
Графиня сидела у себя наверху, переписывала какую-то повесть Л. Н. Внизу была Татьяна Львовна, Трескин157 158. Было как-то скучно, неловко. Пришел Л. Н., худой, говорит нездоровым голосом, спросил, как поживаю, и куда-то ушел. Мы опять остались вчетвером, опять стало скучно, неловко. Кто-то предложил идти кататься с горы; я поддержал. Гора была в саду, воздух чудесный, ночь теплая. Мне было весело смотреть, как мои бывшие ученицы (племянницы Льва Николаевича, сестры Веры Сергеевны)159 катались с горы в огромной корзине, в каких дворники возят снег. Корзину вкатывали на гору, а я спускал вниз...
Потом пошли домой. Наверху уже готовили чай. Стали было играть в веревочку, поиграли-поиграли, но скоро бросили. Я пошел в гостиную, где с Сергеем Николаевичем (братом) сидел Л. Н., и спросил, как идет издание народных книжек.
— Отлично, — отвечал Л. Н., — уже теперь разошлось миллион книжек. А с картинками хуже — святейший синод находит некоторые изображения неправославными... Как вам нравится Сократ (т. е. книжка сытинского издания о Сократе)?160
— Представьте, всем нравится — мужикам очень нравится греческий философ.
Я сказал, что имя это наверное не чуждо народу — существует лубочная картинка XVI или XVII века «Марк Аврелий», а не то, что Сократ.
— А я теперь занимаюсь легендами Афанасьева161, — сказал он. — Сколько я там нашел материала! Но все в обломках. Если составить как следует эти обломки, то что может выйти!.. Эти легенды все из обломков, один обломок здесь, другой надо искать в другом месте, все равно как в «Чем люди живы» в передаче Петровича. Начаты они, но ни одна не докончена... Я уж кой-чем воспользовался, написал три маленьких вещицы и одну большую162
Я указал на житие Николы святоши163. Он сказал, что слышал про него и обещал принять к сведению. Мария Николаевна (сестра)164, сидевшая с графиней за чаем, подозвала меня к себе и сказала, что ей приятно было посмотреть на мое здоровое, свежее лицо — «а то нынче все молодежь бледная да испитая!» В прошлом году она ездила в Ревель лечиться... Я сказал, что нигде не чувствую себя так хорошо, как в Москве.
— Почему же?
— Потому что чувствую себя на месте; в другом городе все как будто не на месте.
— Да, — сказал Л. Н., — у всякого должно быть место, вы чувствуете себя на месте в Москве, я — в Ясной Поляне.
Он стал угощать меня чаем, предложил апельсин. В зале между тем устанавливались столы — гости собирались играть в винт, а на одном столе уже играли. Я заглянул в гостиную — и там собирались винтить. Словом, повсеместный винтеж, точно лихорадка, начал постепенно овладевать гостями. Все стали рассаживаться, всюду показались колоды, точно это было последним прибежищем... Раньше всех засела винтить молодежь, народ в 19—21 год. Затем начали усаживаться дамы и девицы... Мне стало и досадно и скучно; я сошел вниз.
Маленькие девочки, дочери Оболенского и Сергея Николаевича, оделись ехать домой. Пришел в переднюю Л. Н., а за ним графиня... Она подошла к раскрытой двери и стала. Кто-то заметил, как бы ей не простудиться.
— Она в самом деле вышла простудиться, — сказал Л. Н., закуривший в передней папироску, — т. е. прохладиться, проветриться — так говорят мужики. Еще они говорят: человек легкомысленный, т. е. у кого мысли, кто не заботится о завтрашнем дне — «довлеет дневи злоба его». Вот вы — человек не легкомысленный в этом хорошем смысле, — неожиданно заключил он, обратясь ко мне...
О Файнермане слышно будто бы только хорошее. Все, кто ни приедет из Ясной Поляны, говорят одно и то же. Он все будто бы раздает. Осуждают его только за то, что морит жену: есть у них с женой чай, понадобится кому — он сейчас же все отдает..
На масленице мне пришлось быть в балагане и видеть имевшую довольно большой успех пьесу «Анчутка беспятый»165. Мне она тоже понравилась. Я спросил Л. Н., не видал ли он «Анчутку».
— Видел и не одобряю. Как это можно — сколько в Москве народу, есть университет, и никого не нашлось написать что-нибудь получше. Я уверен, задайте вы своим ученикам хоть 3-го класса написать пьесу для балагана, те лучше напишут!
Погодя немного, я постарался незаметно ускользнуть домой ‹...›
***
Снабженный письмом к графине и условиями, которые написал Лебедев от ее имени166, я 22 июня ‹1886 г.› был уже в Туле.
В Ясную Поляну я ехал на извозчике. Дорога прелестная — сначала идет по местности холмистой, а потом начинаются леса, самая Засека. Светло-зеленые поля, темно-зеленый лес, тишь, от которой я уж отвык в Москве, благоухание... Я не узнал полей: в прошлом году они были сухи и серы, в этом, благодаря дождям, — свежи и зелены, овсы были чуть не по колено, рожь — по плечо, трава — по пояс.
— в Басове даже велел остановиться в трактире попить чайку; в 10 часов все-таки приехал в Ясную Поляну.
Подъезжаю к дому — никого нет. Я стал отдавать извозчику деньги. Лев Николаевич появился вдруг, точно из земли вырос.
— Иван Михалыч! Вот хорошо, что приехали. Как я рад!
Видно было, что и точно он рад.
— Пойдемте пить чай, наши еще не встали.
— А вы, несчастные, всё в Москве, — сказал он. — Как поживаете? Что ваши, как матушка?
У меня все было благополучно. Я в свою очередь спросил, как все у них, как он.
— Я сейчас кое-что написал, написал то, что нужно, и чувствую себя хорошо. Написать, когда является расположение, это не то, что — дай-ка я сяду да стану сочинять, — отвечал он мне.
Я сказал, что у меня письмо к графине насчет его рукописей, что Николай Федорович будет крайне рад, если графиня и он согласится отдать их на хранение в Музей.
— Я очень рад сделать Николаю Федоровичу приятное, и Софья Андреевна тоже согласна...
На этом разговор о рукописях и кончился.
Мы заговорили о Даниле Ачинском. Лев Николаевич сказал, что не знает, куда девались у него книги, которые он собирал: между ними было и это житие с грубым изображением самого Данилы167.
— Были, знаете, такие жития разных людей, не признанных церковью, и житий таких было много. Я помню, я их собирал... Надо мне спросить в Туле, там есть один, который тоже занимался собиранием их... Николай Федорович, — продолжал он, — за что-то на меня сердится? Он высокого разбора души человек, но сектант. Что не подходит под его теорию воскрешения, то он знать не хочет. Он — сектант, но человек каких ужасно мало.
Затем он заговорил о прежнем, что занимало его и зимою в Москве — стал рассказывать о Файнермане. Файнерман почти уж год живет в Ясной Поляне, живет у мужика в избе, помогает работой другим, денег за это не берет, за это его кормят...
— Приехала к нему жена, — продолжал Л. Н., — вроде курсистки — недурная собою, но натура дюжинная, не понимает, что та жизнь, которую он ведет, и есть настоящая жизнь... А она им недовольна, хочет поступить на какие-то курсы, бог знает что и зачем. Мы все говорим: дела нет; да дела везде сколько хочешь, в работе нуждаются люди! И Файнерман помогает — избу крыть, дрова колоть, косить, загородку загородить... Вот нынче у нас дело — городить изгородь, надо будет кольев нарубить, привезти... Это мы с ним сегодня сделаем. Вот настоящее дело. И его за это все любят, начиная с Софьи Андреевны и кончая последней бабой на деревне: Борисыч, Борисыч, несут яиц, молока... Вот настоящее дело, а мы думаем, что оно в обеспечивании себя... Он имел хорошее влияние на детей моих, особенно на Илью: они увидели на нем возможность устроить жизнь по-другому, применить к делу то, чем он живет. Илья меня особенно радует... Настоящая жизнь это — ходить с сумкой; недаром и пословица есть: от тюрьмы да от сумы не отказывайся. По-моему, ходить с сумкой безо всякого сравнения лучше, чем, например, жить в лакеях.
Вошел лакей Михаил Фомич со сливками.
— Ей-ей, я променяю свою жизнь на хождение с сумкой, — продолжал Л. Н. — Служить в лакеях, как Михайло, учительствовать, как вы, писать романы, как я, это, по-моему, без сравнения хуже, чем ходить с сумой, побираться. Я ужасно держусь за свою теорию сумки... А Михайло вот все думает, что надо обеспечить себя и семью, — разве можно обеспечить?
— Ну, я сделаюсь болен, ваше сиятельство, — сказал лакей, когда Л. Н. замолчал и стал пить кофе. — Кому я тогда нужен? Как же мне себя не обеспечить?
Лев Николаевич опять заговорил о преимуществах хождения с сумой, а лакей стал толковать, что это спаси бог, — как же тогда на меня смотреть будут?
в самарском имении. Между тем чай мы кончили и пошли в Чепыж.
— Скука тут какая! — неожиданно сказал он мне. — А все папенька! Вчера начали косить, устали, измаялись. Это бы все ничего, а скверно то, что чувствуешь, что, если что сделаешь не по его, он осуждает... Я прожил в Самаре целый месяц, и как я чувствовал себя там легко — не было этого осуждающего глаза! А то вчера мы косили и выпили по две рюмки водки. Я ему про это сказал; он стал говорить, что это хоть и делают мужики, но это дурно — нам надо в мужицкую работу вносить хорошие начала, а не брать дурных: водка — лишнее. Ужасно тяжело так жить — чувствуешь, что осуждают тебя на каждом шагу. Мы косили вчера двумя артелями; я на завтра даже хочу перейти в другую артель: в нашей такая скука и так неприятно!
До завтрака мы гуляли довольно долго, толкуя все о жизни в Ясной Поляне, о последних произведениях Л. Н. Когда мы вернулись, графиня сидела уже в зале. Я спросил, как она поживает.
— Живем, — отвечала она, — и барствуем, и крестьянствуем, и уж не знаю что!
Я передал ей письмо. Она сказала, что привезет рукописи в Москву осенью и отдаст в Музей с тем, чтобы их разобрали и привели в порядок.
«Яснополянских ведомостей». Редактировались они Сережей, он и занялся писанием разного вздора для них. Неожиданно вошел Кузминский. Сережа спросил его, правда ли, что вчера вечером был разговор по поводу водки.
Кузминский сказал, что большого разговора не было, но Л. Н. говорит, что это при работе лишнее и, по его мнению, даже дурно: вино есть начало нравственно дурных поступков, человек начинает терять сознание того, что нужно и что лишнее — больше ничего.
— Я вчера приходил к вам во время косьбы, — продолжал Кузминский, — ужасно в вашей артели тяжелая атмосфера и притом злобная, вот чем нехорошо!
— Да, — заметил и Сережа, — у нас нельзя косить: скука — это ужас что такое! Я перейду завтра в другую артель.
К обеду из Ясенков явился Илья и его приятель Альсид168
— А вас заметили, что вы в Ясенках пили водку. Пили бы да так, чтобы заметно не было, или отправились-то под каким-нибудь предлогом, я всегда так делаю, а то папа́ и заметил...
Альсид обругал его, сказал, что когда он ездит в Ясенки, ему никто ничего не говорит, а тут он вздумал лезть читать наставления...
Лев Николаевич после обеда исчез, и я спросил, где он. Оказалось — уехал в лес рубить колья для чьей-то изгороди.
Вечером я гулял по парку. Возвращаясь, вижу — графиня изо всей мочи звонит169
Он скоро явился, седой, красный, в драном сером коротком пальто, в шляпе. Я спросил, как его работа.
— Ездили с Файнерманом колья рубить. В лесу так славно, вы представить себе не можете! А вы погуляли? — спросил он меня тоном, в котором против его воли как будто прозвучала чуть-чуть заметная ирония и упрек, и сейчас же обратился к Альсиду.
— Сделайте такую мне милость, свезите к Борисычу дров, он просил связку, а то хлебы поставили, а топить нечем. Я послал было Ваську, но это ему (т. е. Файнерману) будет неприятно, свезите вы...
Альсид побежал.
— Бедный, бедный Борисыч, — сказал Л. Н.
На крыльце стояли две его племянницы и дочь Маша.
— Чем Борисыч — бедный, папа̀? — спросила Маша.
— Жена у него плохая. Пустая она, совсем пустая, как вы три.
— Оттого-то она нам должно быть и нравится, — с каким-то милым трогательным добродушием отвечала Маша.
Лев Николаевич сказал мне, что читает теперь Макса Мюллера о религиях170.
— Обыкновенно разные Спенсеры думают, что религий много, — сказал он, — а их всего только пять и в каждой есть книги: у будистов Трипитаки, у христиан своя и т. д.
Мне это было не ново.
— А что, вы продолжаете не есть мяса? — вдруг спросил он меня.
— Вы, я знаю, коренной вегетарианец, — почему-то сказал он, — я вот уж почти год не ем мяса и чуствую себя отлично. Думать, что мясо почему-то необходимо, — вздор. Это мнение науки, а наука всегда рада ухватиться за всякую нелепость. Полмира не ест мяса и живет, а тут вдруг вообразили, что мясо необходимо.
Зашла речь об Островском, который умер в мае171, и я сказал, что мне его жалко.
— И мне его жаль, — заметил Л. Н., — оригинальный был писатель, очень оригинальный... Я перед самой его смертью послал ему полные свои сочинения и письмо, не знаю, читал ли он...172
— Ах Борисыч! Ужасное положение у него с женою! — И он заговорил, что жена Файнермана не хочет жить так, как живет он, по-божьи, что жить по-божьи ей представляется чем-то диким, — не то, что революционная деятельность. Он прежде был революционер, она — тоже; они и сошлись-то будто бы только потому и были готовы на все — в тюрьму, в каторгу, на виселицу.
— Это битая дорожка революционеров, — продолжал Л. Н., — на нее она готова, а как только зайдет дело о том, чтобы жить по-божьи, на это — нет, она не способна.
Татьяна Андреевна сказала, что у ней ведь ребенок, как же жить ей так, как живет муж, надо и то и другое; работать с ребенком не пойдешь, а как их будет не один — и подавно. Кузминский заметил, что если, как говорит Л. Н., есть заповедь не иметь собственности, то есть и другая заповедь — жить с женой, а как жене жить с мужем, коли он не кормит жену.
— Мне кажется, что муж должен содержать жену, — прибавил он.
— ступай побираться. У нас восемьдесят миллионов так живут, нечего смотреть, что какая-нибудь сравнительно маленькая часть живет иначе.
— Муж хочет жить по-божьи, как живет большинство у нас; он хочет жить по правилу, а она по исключению; что разумней, жить по правилу или по исключению?
Я заметил, что соединить правило не имей своего и живи для других живи с женой всегда мне казалось трудным, даже невозможным.
— Кто проникнут религиозным началом, тому это не трудно и возможно, — отвечал Л. Н., — кто любит всех, будет любить и жену. На фоне всеобщей любви он выделит и любовь к жене, но только на фоне всеобщей любви... Я не удивляюсь, что жена Файнермана с ним не согласна. Было бы удивительно, если бы женщина пошла на это. Если бы нашлась такая пара, это было бы чудом, и влияние этого было бы громадно!
Я сказал, что жестоко требовать от нее, что требует Л. Н., и Татьяна Андреевна прибавила: как жить ей с ребенком? У них зимой, говорят, иной день не было и хлеба, жили они в холодной избе, у каждой бабы найдется то, чего недостает у них.
— не больше. А и у них, как у нас, есть глупое, непонятное теперь для него желание обеспечить себя, а обеспечение — вздор. Надо жить по-божьи в настоящем, а что будет впереди — как это узнать?
— Для революционеров жить по-божьи и все, что не имеет этой революционной помпы, представляется чем-то ужасным. А подумайте: что легче — жить так, т. е. не иметь своего, работать на других, ходить с сумой, или принять на себя последствия революционной деятельности? Конечно, жить по-божьи и легче, и приятней.
Я сказал, что ходить с сумой — не всегда вы́ходишь себе кусок хлеба я не везде, привел слышанные мною от Николая Федоровича рассказы о китайцах — в Китае рабочие на коленях молят о работе, и ее нет, и они мрут...
— Ну и что же? — сказал Л. Н. — Пришла смерть, и умер человек Лучше умереть, живя по-божьи, а не как-нибудь иначе... Да ведь о Китае это пишут, и кто говорит, сам хорошо не знает, что там в Китае, а в России, я знаю, живут так люди.
— Но едва ли вы этой смерти пожелаете не только для людей близких вам — для жены, детей, но даже для отдаленного от вас человека — ну, для меня, например...
— он сыт был всю зиму.
Кузминский, возвращаясь к прежнему, сказал, что для него все-таки остается непонятно, как мужу не содержать жены.
— Муж добывает себе, сколько ему нужно, чтобы быть сытым, отчего же не может этого жена? — спросил Л. Н.
— Но у жены ребенок, где же ей идти побираться или идти работать? — заметила Татьяна Андреевна.
— Он жене отдает все пополам, — сказал Л. Н.
больше, чем ему надо. Но Кузминский заметил, что если он добывает на семью, что надо, то это не излишнее.
Я ушел, мне стало скучно.
В павильоне, где отвели мне место, пришел ко мне Сережа. Он стал завидовать мне, говорил, что я сам себе царь, человек вольный, а он подневольный. У меня была с собою водка — я задернул занавески, и мы выпили по рюмке. Я спросил, чего ему еще нужно. Он отвечал, что жить тут для него трудно — постоянно осуждения ему надоели.
— Вот вы сейчас задернули занавески-то, а жить постоянно за занавеской, постоянно остерегаться, что тебя осудят, — разве это легко? Вчера мы выпили на сенокосе, узнал папенька, начинает толковать. В Москве в концерт — и то надо идти украдкой, а узнает он, сейчас почувствуешь, что он тебя осуждает. Как я славно жил в Самаре, как было легко! Хоть бы жениться, что ли, да зажить своим домком, уехать отсюда.
Я спросил, зачем он косит.
— В пику папеньке. Он считает это важным делом, а я считаю это в нашем положении забавой, дядюшка Сергей Николаевич называет это даже кощунством над трудом, ну и хочу ему показать, что хоть это для меня и забава, а работать я могу не хуже его и других.
Признаюсь, как утренний его разговор со мною, так и теперешний был для меня неожиданностью.
23 июня. Сегодня наши со Л. Н. во главе отправились косить рано — в половине пятого. Потом вернулись и после кофе отправились опять. Явились к завтраку. Лев Николаевич ел одну только тюрю.
Днем я ходил гулять в лес и гулял до обеда, хотя и был дождь.
— Илюша, вероятно, и сам принял в ней участие. Отец не знает.
Вечером, после косьбы, пришли и Л. Н. и Сережа.
— Что ж вы к нам, Иван Михаычч, не приходили, где мы косим? — спросил Л. Н.
Я промолчал — мне было совестно идти к ним, когда они были все-таки за работой.
Лев Николаевич долго просматривал письма; какой-то американец прислал за перевод «Войны и мира» 1000 франков, кто-то прислал стихи, а Фрей — письмо из Лондона173.
— Нынче в ведро, из которого мы пили квас, попал таракан. Мы пили, не замечая его. Увидал мужик таракана в ведре, стал вытаскивать, а Василий Михеев и говорит мужику: что ловить-то, глотай с ним, авось не больно велик!
— Поставил Файнерман к дереву косу, а она упала. — «Ишь, — сказал Василий Михеев, — с дождя-то, видно, ко сну клонит — задремала!» ‹...›
На другой день, когда мы беседовали с Сережей, приходит Кузминский, начинает снова про жену Файнермана говорить, что Л. Н. с Файнерманом пошли ее чуть ли не уговаривать. — А что уговаривать — надо накормить, вот и все, — прибавил он. Осуждал Л. Н. и его теорию сумки: ему хорошо иметь возможность не прилагать к делу своих убеждений, его впрочем иначе и вообразить нельзя, и это очень хорошо, а Файнерман приложил их к делу, и вышла чепуха...
После этого Сережа мне сказал, что у них Орлов. Я побежал в залу. Там, оказалось, не он один, а еще и три его ученика, один из них восточный человек, черный, с черными блестящими глазами. Говорил больше он — глупо и неуклюже. Явился от Файнермана Л. Н., казалось, он был не очень доволен приездом гостей. Я впрочем скоро ушел спать.
25 (среда). Лев Николаевич вышел уже косить часов в девять, сыновья в пять.
Орлов, оказалось, ходил сегодня тоже на покос, ворошил сено палкой. После завтрака стал собираться дождик, явился Л. Н.
— Вот беда-то, Иван Михалыч! — сказал он мне.
— Дождик-то? Это ничего: сено черно, зато каша бела!
— Да, это правда.
— сравнение, взятое им из Киркегора, из статьи «Афоризмы эстетика»27*.
— Ужасно это верно и остроумно! — заметил он, как будто посматривая на меня.
Ученик Орлова, черный восточный человек, приехал изучить кустарную промышленность в России с тем, чтобы завести ее на Кавказе. Лев Николаевич выразил ему неодобрение.
— У всех этих кавказцев на первом плане всегда только внешность — кинжал с серебряной насечкой, шашка... Так и в этих делах, музей и т. д. — одна внешность.
Я заметил, что что же вводить кустарный промысел на Кавказе, там и свой есть. Лев Николаевич подтвердил. Да и как такие вещи вводить? Я помню в Сапожковском уезде стали делать молотилки, потом стали в Епифанском и других уездах. Явились формы, как с ними обращаться, как их продавать... Он купит молотилку, ездит по уезду, молотит ею, а потом какому-нибудь хозяину продаст... Все это органически тесно между собою связано... А музей кустарный — из него ничего не выходит, и вводить ничего нельзя.
начал говорить Л. Н., что он ему что-то проспорил... Бабы взялись за грабли; дали грабли и Орлову. Мужик стал расставлять баб, где начинать грести... Я один оказался без дела, мне стало неловко, и я ушел.
Пришел я домой и стал читать Данилевского. Орлов наработал немного, — смотрю, через несколько времени он уж и идет. Мы было пошли с ним гулять, но загремел гром, и он, не слушая моих уверений, что гроза скоро перестанет, опрометью бросился домой.
Вечером ко Л. Н. был неожиданный визит — явился из Москвы техник, чтобы, повидавшись с ним, решить некоторые вопросы и сомнения174. Был и восточный человек, и мы с Файнерманом. Все вышли на балкон у кабинета... Техник толковал о Михайловском и других пустяках. Льву Николаевичу было скучно; я тоже на время отошел... Когда я подошел снова, Л. Н. рассказывал о знакомом мне по его прежним рассказам Балте́175; как раз мирные черкесы преследовали немирных в виду пушки, которая была в ведении брата Л. Н. Немирные ускакали далеко, а мирные были на расстоянии пушечного выстрела. — «Балта и стал просить брата: ах, выстрели пожалуйста (по мирным, т. е. по нашим) только для того, чтобы когда приедет домой, рассказывать, как убили людей из пушки... Смерть человека для него была решительно ничего...»
с дровами: в ком есть искра, тот может эти дрова зажечь или по крайней мере высушить... Файнерман с своей стороны заявил, что всякий должен исполнять волю божию, а воля божия в том, чтобы распространять род человеческий ‹...›
Беседа эта была в некотором роде прощальная, подали лошадь, и трое учеников Орлова сели ехать на Козловку.
Мы ушли пить чай. Явился техник, и разговорились про образование. Лев Николаевич сказал, что образование не зависит от места. Много есть людей, которые учились и в Геттингене и везде, но и тот, кто всю жизнь прожил где-нибудь в Телятинках, не хуже их. Один имел общение с профессорами — глупыми и умными; другой с соседями — глупыми и умными, видел природу — словом, это одно и то же. Думать, что умственное развитие получишь где-нибудь там-то и там-то, это то же, что думать что религиозное настроение можно получить только в церкви. Это большое заблуждение. Он привел в пример Епишку, которого вывел в «Казаках» под именем Ерошки, и назвал его образованным человеком: он знал, как живут кабаны и фазаны, знал всю окружающую природу.
— Если определить его точнее, то его можно назвать пантеистом: природа была для него чем-то живым. Он был большого ума и образования человек.
Мы вышли с Орловым в сад, ходили и сидели в темных аллеях, прошли на дорогу к пруду, потом на луг, куда выгоняют деревенское стадо. Возвращаясь, смотрим, техник идет на Козловку. Было темно, стало накрапывать. Почуя дождь, Орлов бегом бросился домой. Мы поговорили с техником, я пригласил его к себе в Москву, немного его проводил. Я прямо ему сказал, что в Ясной Поляне сами плохо знают, как жить, и напрасно приходят в нее люди с вопросом, как жить. Дождь стал сильнее; я немного измок...
. Я еще не встал, смотрю, идет Орлов. В главной аллее, слышим, стук экипажа — это приехала графиня, уладив свои издательские дела, и везла новую англичанку; с ней приехал и Ге-сын28*.
Орлов не потерял охоты работать. Он без околичностей взял Лелину косу, вскинул ее на плечо и — странно было смотреть на него в сюртуке и брюках — отправился косить. Я повел его к Воронке, в артель, где косил Сережа. Подходим — косцы спят под тенью молодой, кудрявой березы. Первым проснулся мужик, увидав нас, стал и других будить. Стали подниматься другие, спросонков сердито взглядывая по сторонам. Пошли на места. Начал передний мужик, прокосив плешь, подвинулся вперед, за ним начал другой, третий... Последним пошел Орлов...
Он и на этот раз не работал много. Не успел я чем-то заняться, он постучался. Мы пошли туда, где косил Л. Н. с Ге. Они кончили и готовились идти завтракать.
— Что же вы вчера ушли от нас? — спросил меня Л. Н.
— Вам скучно слушать, — сказал он, — а мне-то каково?
После завтрака Орлов не пошел косить. Мы с ним пересматривали письма ко Л. Н. Каких-каких только нет! И хвалебные, и просительные, и такие, где авторы просят разрешить сомнения. Какой-то Ковнер из Сибири пишет, что когда-то занимался литературой, похитил из банка 168 тысяч, о мотивах похищения знает Ф. М. Достоевский, что он обладает талантом — может, например, играть в шахматы, — нельзя ли перебраться в Ясную Поляну176. Собрание писем Достоевского было тут же в кабинете. Я справился — о мотивах ни слова...
После обеда мы отправились с Орловым гулять в Ясенки, зашли в трактир выпить пива. Ко мне подходит трактирщик и спрашивает:
— Что так давно не были у нас?
Я, признаться, удивился, что он меня знает, потому что мне и прежде бывать в Ясенках приходилось редко, и я отвечал, что в Ясной Поляне не жил, жил в Москве.
Он заговорил про толстовские издания: прошлый год он читал три книжки, а теперь книжек у него нет, должно быть, новых не вышло. Я спросил, видают ли они здесь Льва Николаевича.
— Теперь, когда в поле работа, не видать, а по весне проходил часто, — отвечал трактирщик, — тут он у нас брал овес мужикам, поручился: коли они не заплатят, так он свои отдаст. Рублей на сто взяли.
Мы расплатились и стали было прощаться, как вдруг он спросил:
— А Исаак где?
— Разве вы его знаете? — спрашиваю.
— Как же не знать?
Я спросил, любят ли его здешние мужики.
— Нет, и священники очень жалуются, что смущает народ. Нет, не любят.
— Но говорят, что ему помогают, кто принесет яиц, кто молока...
— За что ему помогать-то?
— Он другим помогает — помогают и ему.
— Хорошо ему жить за графской-то шеей, он поди-ка вон на Городню29* помогать... небось!..
Вечером за чаем заговорили мы с Ге о косьбе.
— Для меня косить — то же, что ездить верхом, — сказал я.
Ге начал оспаривать. В это время проходит Л. Н. и, как после говорил мне Орлов, услыхав мои слова, с болью на меня оглянулся.
27 июня. Утром мы встретили Л. Н. на крыльце с мужиками и Файнерманом. Он холодно и как будто нехотя поздоровался со мной и с Орловым.

Н. Н. ГЕ ЧИТАЕТ СВОИ ЗАПИСКИ РЕДАКТОРУ ЖУРНАЛА «СЕВЕРНЫЙ ВЕСТНИК» Л. Я. ГУРЕВИЧ
Подарен художником Толстому в день его восьмидесятилетия. Внизу дарственная надпись: «Дорогому Льву Николаевичу от любящего его Л. Пастернака. 1908 г. Авг. 28-го. Москва»
Музей Толстого, Москва
Ходили с Орловым гулять. Он рассказывал, как устраивалась сибиряковская община на Кавказе. Сибиряков177 предложил устроить ее там где у него несколько тысяч десятин земли — в Самаре и на Кавказе. Как на специалиста в этом отношении Толстой указал на Орлова, который и стал настаивать, чтобы поселенцы выкупили землю. Пошли интриги, недоверие... Поставлено было поселенцам условие — иметь семью. Кто решался ехать без всяких условий, и у тех будто бы бывали минуты сомнения, и те иногда говорили: «вот она, Христова-то вера!». И Сибиряков и Орлов, по его словам, были тут вне всего, действовали только в интересах дела, а Озмидов — с личным интересом, Толстой — иногда с неприятным недоверием.
смотрю, Орлов по-прежнему сидит в кабинете и перечитывает письма... До обеда было еще долго, я позвал его в сад.
Орлов начал говорить, что косить так, как косит Л. Н., значит убивать себя, оттого-то он и стал такой черный, истощенный; это вместо дела значит выдумывать себе дело, чтобы заглушить внутренние страдания, в чем сознается и сам он: «когда работаешь, все забываешь!». «И потом, как они косят? Плешинами. Начал я грести вчера, гляжу — в одном месте не выкошено, в другом, — говорю Л. Н.: „Что же это?“ — „Да, — отвечает он, — это оттого, что плохо косят“... Да еще там мужик один — явно льстит ему: в древние времена были пророки и святые, и вам бы, Лев Николаевич, за ваше милосердие...». «Мне стало совестно, — продолжал Орлов, — я отвернулся... Надо ему сказать, чтобы он перестал...»
Орлов вчера косил со Л. Н., но его стало только часа на три по непривычке да и по духу, вероятно, который царит в этой артели. Нынче он не пошел.
Обедали мы только с гувернантками: графиня была не знаю где, а Л. Н. на покосе. M-me Seuron нам сказала, что ее Альсид косит в той артели, где и Сережа, там хорошо: мужики веселы, бабы красивые, а в другой — там царит святость.
— Впрочем бог знает, кто будет на небе! — прибавила она.
пора. Этот пенитенциарный дух становится тяжел и мне, человеку чужому, и я поневоле соглашаюсь с Сережей, который мечтает завестись своим домком. Мы с Орловым окончательно решили сегодня уехать.
Лев Николаевич вернулся к вечернему чаю уже поздно. Он стал рассказывать, что сегодня в Телятинках он нашел подтверждение своим мыслям, что работы везде сколько угодно, что на безработицу жалуются не по нужде, а по жадности. Человек, получавший сто рублей, не пойдет на какую-нибудь работу и будет жаловаться, что нет работы.
— В Телятинках мне надо было поводить лошадь. Я спросил, нет ли кого. Вышло два здоровых мужика — в такую-то рабочую пору они сидят дома и сидят по лени! Они слывут здесь ворами — да, коли будешь сидеть дома в рабочее время, то, разумеется, придется украсть лошадь или корову!
Около дороги Л. Н. встретил мальчик с симпатичной физиономией, худой, лет одиннадцати, просил дать еще книжек — у него было три, да он прочитал их... Встретился мужик из Телятинков, жаловался на нового управляющего... В это время на лошади в красной феске появился человек.
— Я не могу сказать, какую вдруг почувствовал я к нему неприязненность, но я преодолел себя; он слез с лошади, и мы разговорились. Он проводил меня до деревни и рассказал, как он несчастлив с женой, которая теперь уехала к отцу Амвросию178— он стал говорить о недостатках своей жены, и оказалось, что недостатки эти — те самые, какие я вижу и в своей жене, и в Татьяне Андреевне, и в Файнермане — жалуется, что нет средств и т. д. «Ну, коли только это, — говорю ему я, — так все уладится, и не надо тут отца Амвросия». Вся бедность, нищета мужиков происходит главным образом от недостатка единения, взаимной помощи. Правда, что десять процентов придется здесь на долю угнетения правительства, десять на водку, десять на попов, но семьдесят — на долю недостатка в помощи друг другу.
Сегодня какой-то мужик в Ясной Поляне городил изгородь от скотины, но не догородил всего, оставил часть, принадлежащую брату, — от этого пропадает и земля, потому что от изгороди при пахоте надо будет отступать, по аршину по крайней мере с обеих сторон. Лев Николаевич сказал ему про это, принялся с ним городить сам, пришел и брат мужика и кто-то еще, и загородили все, как следует.
— Стоит только дать толчок, и все будет как следует, — прибавил Л. Н. ‹...›
Скоро мы с Орловым ушли в павильон, а немного погодя пришел и Л. Н. Он с упреком сказал Орлову, что мы как будто его избегаем (Сережа и прежде сказал мне, что папенька говорит, будто мы избегаем его и ходим все вместе, точно заговорщики), что он хотел что-то сказать. Сказать было, должно быть, нечего, он помолчал, помолчал и только попросил Орлова передать ученикам, чтобы они на теперешнее поселение на Кавказе смотрели не на как постоянное, но как на переходную ступень... Переходную к чему, он не сказал, но мне подумалось — к сумке и нищете... О Василии Ивановиче, на которого мы с Орловым указывали для поселения, Л. Н. сказал, что он едва ли годится... Говорить стало больше не о чем, было неловко. Лев Николаевич поднялся. — «Ну, если едете, так прощайте; если остаетесь — то до завтра!» Мы сказали, что едем. Он поцеловался с Орловым, потом со мною и ушел. Скоро и мы ушли из Ясной Поляны ‹...›
В декабре — я этого совершенно не ожидал — пришел ко мне раз вечером Л. Н. Толстой.
— Что поделываете? — спросил он меня, — от Орлова я слышал, что вы занимаетесь Эпиктетом, Марком Аврелием...
Я отвечал, что Марком Аврелием, действительно, занимаюсь, перевел около десяти книг179.
— Ну, а язык у вас какой? Надо, чтобы его понимал и мужик.
— Язык бывает только тогда, когда все отделано, а теперь языка нет, — отвечал я и спросил, где теперь Орлов.
— Он в Москве, на Кавказ было поехал, но вернулся... У него тот недостаток, что он уж слишком занят копаньем в себе... Поехал, потом стал думать, зачем ехать, когда можно быть полезным и тут, и вернулся, теперь он здесь... В марте все-таки думает опять уехать.
— А у Василия Ивановича, — продолжал он, — все несчастья — перемерли дети, девочки; очень он этим огорчен. Я недавно писал ему, хочу нынче опять писать...180 Сибиряков — он до смешного мне верит, или старается верить во все, во что я верю, и далее не идет — как-то слышал от меня, что Василий Иванович — хороший человек, ухватился за него и теперь предлагает ему место учителя у себя в Самаре — один предмет 300 рублей, два предмета 600 рублей и, кроме того, еще 10 десятин земли — условия идеальные!
Я заметил, что мы с Орловым еще летом про это же говорили, но что сам он, Л. Н., был против...
— Неужели? Когда же это, совсем не помню!.. ‹...›
Он упомянул, не помню почему, что слышал от Грота181 182, что теперь философов много, и они хотят издавать журнал.
Я сказал, что знаю многих из них, только какой же может выйти журнал? Философы эти так различны, выйдет разве сборник.
— Они и хотят издавать сборник, где бы помещались переводы лучших философских произведений прошлого времени, чего ж лучше? Но при этом хотят издавать и журнал... Сборник я им советовал издавать, а журнал нет! Какой же это в самом деле будет журнал, если все будут идти кто в лес, кто по дрова?.. Мне это напоминает анекдот моего знакомого Жемчужникова183, которому принесли раз суп, а в супе волосы. Он посмотрел и говорит: «Я люблю, чтобы мне подавали суп отдельно, а волосы тоже отдельно!»
— А здесь, кроме волос, сколько еще другого подадут с супом! — заметил и я.
И он заговорил, что и в нашей и в западноевропейской науке главный недостаток — условность языка. Как настроено, в каком диапазоне, так оно и идет: настроено все хорошо, в правдивом диапазоне, все хорошо и идет; настроено фальшиво, все так фальшиво и пойдет. Ученые книги пишутся именно фальшиво, в фальшивом диапазоне: нельзя прочесть двух страниц без того, чтобы не спросить, что автор разумеет под тем-то и под тем-то.
Он опять спросил, что́ я поделываю. Я отвечал, что почитываю его знакомых — Хомякова и Аксакова. Он не одобрил славянофилов, сказал, что Достоевский под конец выше всего начал ставить народ и христианским считать только то, что было русское; привел место, кажется из Кольриджа, что тот, кто истину ставит ниже народности, тот кончит тем, что поставит свое мнение выше всего184.
«Что мне не нравится во всех славянофилах — это церковность. Они все заражены ею!..»
«Сытин и другие издатели хотят теперь издавать книги получше — „Милорда“, „Пана Твардовского“185„Арифметику“ Меморского186, например, — говорил мне он далее и, по-видимому, неспроста. — Надо работать для людей. Кто может, отчего ж тут не позаняться? Эти книжки изданы бог знает как... Исправить орфографические ошибки, поправить явную нелепицу — и то хорошо. Кто может, пусть идет дальше: может поправить не только нелепицу, но изменить к лучшему и содержание. Я ищу теперь таких людей, нет ли у вас? А то, например, „Арифметика“ Меморского теперь так печатается, что по ней учиться нельзя!»
Я обещал посодействовать, но спросил и его, отчего бы ему не написать что-нибудь для театра.
— Я вчера был в «Скоморохе» — чушь и дребедень давалась ужасная!..
— А я как раз тут-то теперь и работаю, — отвечал он, усмехаясь, — поправляю теперь корректуры187188, я им читал — плакали, рыдали — вот как! А вы думаете, я буду зевать?
— Что же это такое?
— Драма «Коготок увяз — всей птичке пропасть». Вышло — это смешно сказать — удивительно хорошо! Юрьев относился крайне строго, но и ему понравилось.
— Что ж, она пойдет на театре?
— Непременно, жду с часу на час Лентовского189. В цензурном отношении затруднений не предвижу — ничего такого нет, из крестьянского быта, прелюбодеяние...190. Обыкновенно думают, что эпические писатели не могут писать драм, а вышло удивительно хорошо!
Он встал, чтобы идти домой, потому что его ждал обед — было уж более пяти часов. Ко мне он зашел от Николая Федоровича, к которому заносил книгу Билля о Будде191, но не застал его дома...
— Любопытно бы знать, где он бывает, — сказал мне Л. Н., — не у девок же! А если не у девок, то где же именно?
Я отвечал, что спрашивать его об этом я никогда не смел, и упомянул о рукописях. Оказалось, что Софья Андреевна в Москву их не привезла.
— Надо это дело сделать, нам надо вместе подействовать на Софью Андреевну. Сережа теперь в Ясной Поляне, надо что-нибудь сделать!
Я просил написать, чтобы привезли. Он обещал.
‹1887›
В сентябре 1887 г. графиня Софья Андреевна приезжала в Москву. В одно из воскресений, когда я пришел в библиотеку, Николай Федорович мне сказал, что рукописи Толстого в библиотеке, привезла сама графиня192. Но с ними, оказалось, было не без хлопот. В письме к директору (Дашкову)193 она назвала его милостивый государьваше превосходительство; кроме того, Катков еще при жизни писал, зачем взяли в Петербургскую библиотеку рукопись его Евангелия194 (хотя писал и вопреки закону, ибо библиотека цензуре не подчинена, в ней все без урезок и вымарок), так директор-то еще и боится взять, не будет, пожалуй, наград. «Когда отдаешь что в учреждение, надо все-таки помнить, что с его стороны встретятся непременно затруднения для принятия, ибо каждый начальник до известной степени враг того учреждения, где служит. У нас директор придает значение только тому, что приносит непосредственную денежную пользу, и больше он ни о чем не думает. „Вот, кабы рукописи Михаила Никифоровича195, — мы бы взяли“, — говорит он, — и нельзя его очень-то и винить: надо ж ведь и графине знать, с кем имеет дело, к чему ж оскорблять?.. Впрочем, это мои предположения: Дмитрий Петрович (Лебедев) мне ничего не говорит, что-то от меня таит, я не спрашиваю, да и вы не разглашайте, что я вам сказал...»
196.
***
В декабре того же года я виделся с самим Толстым, встретил его неожиданно на Пречистенке.
— А я сейчас был у Николая Федоровича, заходил к нему, не застал дома, иду теперь к нему в библиотеку, я с ним не видался уже с марта месяца, — сказал он мне.
Я заметил, что теперь уж четыре часа, библиотека заперта.
— Так мы можем встретить его на дороге: он пойдет где-нибудь тут, переулками, незаметными путями, — ответил на это Л. Н. голосом, в котором слышалось какое-то уважение, пожалуй, зависть к этим незаметным путям.
— смотрим, он и сам идет, сгорбясь, в поношенном, потертом, выцветшем пальто с бобровым воротником, тоже под стать пальто.
— А я заходил к вам, и мы было направились в библиотеку, — начал Л. Н.
— И наверное бы не застали; теперь уж поздно...
Я был рад, что Николай Федорович встретился так скоро, потому что, поговорив немного о Шенроке197, который был у Толстого недавно по поводу Гоголя, мы оборвали разговор, и я, чувствуя неловкость, придумывал, что бы такое сказать.
— Да, Шенрок занят Гоголем, написал книгу о нем, и очень хорошо...
И должно быть, чувствуя то же, что и я, Л. Н. заговорил о том, что Гоголь забытый писатель.
Я рад видеть Л. Н., люблю его, расположен и он ко мне, но странно — встретишься с ним, перекинешься пятью, шестью фразами и чувствуешь, что говорить больше нечего, делается как-то неловко. Странно, что бывает это постоянно, что неловкость и недостаток разговорного материала чувствую не только я, но и он...
— Пойдемте назад, мне можно к вам? — спросил он Николая Федоровича, видя, что тот встретил его как будто без особого удовольствия. — Может быть, вы утомились, вам надо отдохнуть? — говорил несколько упавшим голосом, точно влюбленный, ожидающий ответа.
— Нет, отчего же, ничего...
— Ну теперь вы здоровы? — сказал Николай Федорович, — мы слышали, что вы были больны...
— Этого я не признаю; было то, чему быть должно.
— Болезнь быть не должна, — строго ответил Николай Федорович.
— А я все хотел зайти к вам в библиотеку, да все некогда. Есть у меня много книг, мне присылают, все хочу отдать вам в библиотеку. Есть один интересный писатель — итальянец (он назвал фамилию), написавший очень хорошую книгу «Conossenza e progresso»30*, есть она у вас?
— Надо справиться...
— Вы читаете по-итальянски, Иван Михалыч? — спросил меня Толстой.
— Стал читать неожиданно...
— Да, — с какой-то радостью подхватил Николай Федорович, — взял книгу и стал читать, а прежде не читал...
— Так же, как и я, — сказал Л. Н., — я вам отдам ее... А у вас был мой знакомый Леман198
— Да, был.
— Он читал мне свои произведения. Я, как сам писатель, могу сказать, что в них есть отрицательные достоинства — чувство меры, отсутствие всего ложного, фальшивого... Он, видно, самостоятельный человек, стремится сам собою доработаться до воззрений, не следуя общему течению...
— Ну про него этого нельзя сказать — он слушает, что ему говорят, — заметил Николай Федорович.
— Да, как умный человек, он слушает всех, чтобы потом переварить в себе. Он очень серьезно занят воздухоплаванием.
Толстой внезапно впал в тон Николая Федоровича и заговорил, что вот изобрели порох, и все будто бы думали, что теперь войнам конец — ан, ничего, все стало по-прежнему. Изобрели динамит, роборит, мелинит, и тоже ничего!
— С тех пор, как мы виделись с вами, случилось или ужасно много или не случилось ничего, — сказал Л. Н.
— Что же именно случилось, если случилось много? — спросил я.
— Так, ужасно много, — ответил он неопределенно.
***
— Ну, что, как вы вчера с Толстым? — спросил я Николая Федоровича на другой день.
— Да сначала было трудно, а потом разговорились — ничего! Мы долго ходили после вас: он меня провожал, потом я его провожал, потом он опять меня... Домой я так уж и не заходил — мне нужно было в одно место. Толковали и ничего, размолвки не было: уступчив он был удивительно! Конечно, если б мы походили подольше, то вышли бы и размолвки, — прибавил он с улыбкой.
— А вы вчера встретили его холодно.
— Это правда, встретил его холодно, но расстались хорошо. Он приглашал к себе.
— Вы сходите.
— Да, надо будет... ‹...›
‹1888›
Дня через два я пришел в Публичную библиотеку199— Толстой!
Он довольно холодно, как мне показалось, поздоровался со мной. Я подумал, не расспрашивал ли его и вправду Василий Иванович о той свадьбе, где он был посаженым отцом. Может быть так, а может быть, мне только показалось.
О Василии Ивановиче Толстой мне сказал, что он был у него вчера, а сегодня уехал по делам училища в Петербург.
— Орлов поразил меня, Лев Николаевич, — сказал я. — Как же? поехал на дело, поехал, по-видимому, с таким увлечением, так много мне говорил о будущей своей деятельности, а приехал и — запил!
— Да, слышал и я, но все это из третьих рук...
200, взял его с собою и сейчас же ушел, но перед уходом сказал Николаю Федоровичу:
— Что ж вы ко мне-то? И Иван Михайлович тоже? Вот бы вы вместе как-нибудь...
— Уж мы как-нибудь вместе: я буду действовать на Николая Федоровича, — ответил я.
После его ухода мне что-то жалко стало его.
— Он как будто не в себе, нездоров и расстроен, — сказал я Николаю Федоровичу и спросил, когда ж мы пойдем к нему.
Николай Федорович наотрез отказался.
— Ах, я и забыл — что бы мне попросить у него для нас тринадцатый-то том! — 201 спохватился он, — ведь он сам должен был бы принести, а вот не догадался! Мы все для него делаем, что можем, а ему как будто все равно... ‹...›
‹1889›
В 1889 г. по поводу университетского «праздника Татьяны» Толстой напечатал статью, где отзывался неблагосклонно о дебоше и пьянстве в этот день202.
Я был в Эрмитаже собственно с целью посмотреть, какое действие произвела статья. Прихожу — все тихо, степенно, народу мало, шуму мало, пьяных нет.
— А нынче куда тише, и народу не столько, как прежде, — говорит какой-то господин другому.
— Подействовала статья: хотят разойтись, ан и не выходит. Как палка в спицах колеса, не дает ходу.
— Вот, смотрите-ка: отповедь Толстому!
Я прочел на листке:
Целый век мы так прожили,
Что в Татьянин день кутили
Малина и. т. д.
Прочел и неосторожно сказал, что стихи кажутся мне пошлы. Оказалось, что стихи эти самого Долгова, но он — благодушный человек — не обратил на мои слова внимания.
Подошел Якуб-акушер, тоже товарищ, боже, как мы разошлись! У Долгова, очевидно, было больше общего с его новыми знакомыми, чем со мною; Якуб прильнул ко мне только потому, что другого, более подходящего человека, не было. Считая, кого нет, мы не досчитались двоих — умерли. Перебирая, с кем мы кончили курс, позабыли точное число товарищей...
Становилось однако людней, шумней, пьяней. Послышалось «Gaudeamus», песни, топот пляски. Появился на столе седоволосый Кожевников203
На другой день приходит ко мне толстовский переписчик Александр Петрович. Оказывается, вчера, когда я был в Эрмитаже, у Толстых был Фет — было угощение, омары...
— Вы вот только студентам запрещаете праздновать да есть омары, — сказал будто бы переписчик Толстому, с которым у него были своеобразные отношения, — а если у вас самих едят омары — так это ничего!
Толстой будто бы покраснел, стал ссылаться на семью.

ТОЛСТОЙ
Музей Толстого, Москва
Вчера будто бы разнесся слух, что студенты хотят явиться к Толстому, устроить что-то вроде враждебной демонстрации. Всполошилась полиция, поставила городовых... Толстой, к его чести, отнесся будто бы к этому недоверчиво, слегка, а сестра его Марья Николаевна испугалась и поспешила убраться восвояси204. На другой день Толстой получил два письма, в одном говорилось, что студенты пьют за прежнего Толстого, в другом, анонимном и открытом, грубо заявлялось: ты думаешь, что только ты один нашел истину и т. д.
***
Раз я иду из гимназии и встречаю близ театра Корелина. Он спросил, бываю ли я в Публичной библиотеке и не могу ли справиться, нет ли там двух нужных ему итальянских книг.
— Николай Федорович, по обыкновению, роется в карточках. Я сказал об итальянских книгах.
— А знаете, кто здесь? — спросил он.
— Кто?
— Толстой. Он сейчас отсюда вышел, скоро вернется.
Он действительно скоро пришел. Увидав меня, видимо обрадовался и сейчас же заговорил.
— А вы знаете — Александр Петрович...
— Запил?
— Да, получил 40 рублей и — запил.
— Откуда он столько взял?
— Он переписывал. Стахович ему дал. Теперь он у нас: оборвался, в чем-то нанковом, очутился в Ржановке. Я собрал три рубля — он теперь у нас. Вот уж именно — чем больше денег, тем больше зла для него. Он намедни мне рассказывал, как вы его отругали, как говорили, что во всем он сам виноват, что дела у него нет, и он был ужасно доволен, ужасно доволен! Я даже удивился: это так непохоже на вас. Пришел такой добрый. Вот подите, как узнать, чем угодишь на человека...
— Да, это бывает, — сказал и Николай Федорович, — иногда люди довольны, если их отругают.
Слушая Толстого, я понял суть и смысл разговора переписчика с Толстым про омары.
— Ну, как вы, Лев Николаевич, поживаете? Кажется, хорошо?
— Превосходно, чем ближе к смерти, тем лучше. А вам что тут нужно?
— Встретился Корелин, просил навести справку.
— А, имею о нем понятие...
Николай Федорович принес ему книг — что-то на французском языке о Ломоносове и Державине. Он начал листовать.
— Как скоро доходит дело до того, чтобы изобразить по-французски ч, надо, кажется, перебрать весь алфавит, — сказал он, смотря в книгу, — что вы к нам не завернете?
— Да отстал, а теперь как будто уж и неловко.
— А вы опять пристаньте!
— Хорошо, непременно побываю.
Он спросил веревочку, увязал книги. В каталожную стал находить народ — очевидно, поглядеть на Толстого. Вошел Филимонов, Долгов, магистрант Успенский. У Толстого глаза как-то потускнели, по лицу мелькнула чуть заметная тень. Филимонов повернулся и притворился, что он это только так, Долгов с Успенским затихли в уголке.
— Так вы, надеюсь, придете.
— Приду, Лев Николаевич, непременно. А я Лелю вашего видел — какой он большой стал!
— Да, славный малый выходит. А Илья, вы знаете, — отец205.
— Знаю, и поздравляю вас. Знаю, что и Сережа в Петербурге...
— Да, к сожалению, в Петербурге. У него тот недостаток (и глаза его стали снова тускнеть), что он существующий порядок признает хорошим, правильным. В Петербурге в этом утвердится больше, чем где-нибудь.
Я был рад, что увидал его добрым и свежим ‹...›
***
‹› — А, Иван Михалыч, как умно вы сделали, что пришли. Вот на ловца и зверь бежит! — говорил Толстой, встречая меня и, по-видимому, и в самом деле обрадовавшись.
У него сидели Озмидов206, Львов207 и какой-то студент и по английскому каталогу отбирали сто книг для чтения, «чтобы человек мог рассеять окружающий его мрак»208
— Эпиктет, — читал студент.
— Это в первый отдел — книг учительных, — заметил Л. Н.
— Гораций.
— Этого не надо. А по-вашему, Иван Михалыч?
— По-моему тоже не надо, — сказал я, потому что был всегда совершенно равнодушен к Горацию.
— Шекспир.
— Этого я с удовольствием бы исключил, но нельзя...
— Гёте.
— Этого, признаться, я бы тоже исключил...
— Кант.
— Этого надо. Кто хочет достичь высшей философской точки зрения, тот без Канта не обойдется. Я бы прибавил еще Шопенгауера.
— Гольдсмит.
— Надо, непременно надо: это прелестно!
Лев Николаевич на секунду вышел. С его собеседниками, которые дотоле безмолвствовали, вдруг произошла метаморфоза: они точно осмелились.
— Ведь это такая каша в голове получится у того, кто прочтет эти сто книг, — заметил Львов.
Озмидов сказал что-то в этом роде.
Лев Николаевич вернулся. Собеседники снова затихли. Пошли пить чай.
— Ну, а из русских, Лев Николаевич, кого же вы поместите? — спросил я.
— Кого? Гоголь — больше некого! Тургенева не стоит: он совершенно бессодержателен... А вот мне дали читать нового писателя, просят, чтоб я в него вник.
За чаем Л. Н. дал мне читать рассказ «Арина»209 (он любил слушать, как я читаю вслух), но вскоре тихонько взял у меня книгу.
— Нет, что-то плохо!
Содержание рассказа для чтения вслух было, правда, несколько фривольно. Он с книгой отошел в сторону, но и читая один, немного погодя, сказал:
— Нет, читаю, все думаю, что он поправится, а он все не поправляется.
Мне припоминается рассказ одного русского музыкального критика о Дюбюке210. Дюбюк знал Шумана в бытность его в сороковых годах в Москве, но мы и глядеть на него не хотели, и я (Дюбюк) в том числе! Все мы занимались его женою211 (она славилась как пианистка), а о нем никто и не думал, а игранные ею его сочинения никому не нравились... и тот же Дюбюк через 30 лет, играя Шумановы вещи, не мог удержаться от восторженных восклицаний: восхитительно, бесподобно, божественно!.. Шуман еще не признанный и Шуман признанный оказались величинами различными. Так важно было мнение толпы даже для знатока, каков был Дюбюк. То же видел я и в Толстом: признанный, оцененный толпою Чехов (увы!) и для него стал иным...212
Он принес тетрадь, где записаны члены Общества трезвости, заставил и меня записаться. Я записался, ничтоже сумняся, ибо не пью и так.
***
‹12 апреля 1889› Та старушка, которая спрашивала меня про Общество трезвости, все не унялась, хлопотала, была даже у самого Толстого. Мало того, когда ей пришлось увидеться со мною, она просила сходить и меня к Толстому, снова поговорить о ее деле.
Зная вперед, что ничего не выйдет, мне к Толстому крепко не хотелось идти, но я все-таки пошел.
Прихожу — он сидит в кабинете Татьяны Львовны с какой-то дамой.
— А, кого я вижу! Вот умно сделали, что пришли.
Он отрекомендовал меня даме, какой-то Ольге Алексеевне213. Я сказал, что пришел по делу.
— И наверное по какому-нибудь неприятному, — заметила Татьяна Львовна, — у вас и лицо такое неприятное!
Я сказал, что хотел бы получить брошюрок о пьянстве214.
— Сколько хотите, — сказали и Л. Н. и дочь. — Ну, а еще что?
Я сказал, что с месяц назад у него была дама-старушка, просила о помощи, которую он ей обещал...
— А помню, помню!
— Вот она и просила меня побывать у вас, чтобы покончить с этим делом.
— Да, я много думал об этом. Как помочь? Сколько раз я ни просил, никто никогда мне ничего не делал. Все думают: он сочинитель, пришлет какого-нибудь дурака, что с ним делать? Да и что значит это ? Это значит, что человек нигде не годился и пришел просить: дайте по моим заслугам мне синекуру!
Я сказал, что если бы слова его относились ко мне, я бы вполне согласился, но ведь тут старики: больной муж да и старуха жена — та, которая к нему приходила.
— Стало быть, по всей вероятности, ничего не будет?
— Да, вероятно не будет.
— Фаррар215 рассказывает, что он был за умеренное употребление спиртных напитков и говорил речь, — сказал Л. Н., — встает какой-то человек с хриплым голосом, с красным носом и произносит: «Молодец Фаррар, за нашего брата стоит!» Тогда Фаррар тут же сказал, что он переменяет мнение и стоит за полное неупотребление спиртных напитков.
Барыня упомянула что-то про характер, про то, что надо много сильной воли, чтобы от чего-нибудь отстать, например, от курения.
Лев Николаевич все поставил в зависимость — и справедливо — от внутреннего человека и перевел разговор на половую любовь.
— Представьте себе двух людей, которых одолевает плотская страсть к посторонней женщине. Один будет говорить всем: «спасите меня — если я буду рваться, оттащите, заприте меня!». А другой, напротив, будет молчать, чтобы втихомолку лучше успеть достигнуть цели, насладиться страстью. У одного, значит, взял верх нравственный принцип, у другого — страсть; один больше любит свою нравственную чистоту, а другой напротив.
И он с похвалой упомянул об американской секте шекеров216, которые отвергают половые сношения.
— Ну, а не вредно это с медицинской точки зрения? — спросила барыня.
— Нет, не думаю. Чертков спрашивал об этом у одного знаменитого английского доктора. Тот сказал, что из ста случаев бывает один — от этого, а остальные 99 — от противоположного. Я из Америки получил книгу, называется она «Токология»217
— Лев Николаевич, — с ужасом подхватила барыня, — как же вы отдаете такие книги!
— Написала ее женщина-доктор. Прекрасная книга, последнее слово науки, но главное — в ней вопрос взят с нравственной стороны. У животных есть время для совокупления, а человек его не знает — в этом отношении он стало быть ниже животного! Я даже теперь пишу об этом218. Как вы, Иван Михалыч, благословляете? — пошутил он вернее всего потому, что ему стала надоедать барыня.
— Что же мне благословлять вас!
— Ах, что вы? — сказала барыня. — Пишите, Лев Николаевич!
— Я продолжаю эту мысль: жена, например, беременна, но муж...
— Но я думаю, что всякий порядочный муж себе не позволит, — перебила барыня.
— Нет, позволяют — и в период беременности, и когда жена родит и кормит ребенка. Я думаю, что от такого неудобоносимого бремени — кормить ребенка и быть любовницей — у нас являются крикуши (он так и сказал: крикуши).
— Ну, а между девицами кликуш не бывает? — спросил я.
— Нет... мало... это уж у них бывает заразное, — не без запинки ответил Л. Н.
— Если мало, значит бывает, — заметил я.
— И если где надо эмансипацию, так она должна быть вот где — не на курсах, а в спальне.
— Мне кажется, что в этом отношении женщина хуже мужчин, — сказала барыня, — мужчины, право, нравственнее.
— Да, пожалуй... Я был ужасно рад, прочитав американскую книгу: она открывает такую дальнюю перспективу нравственного совершенствования! Из дела столь огромной важности, как продолжение человеческого рода, нельзя делать себе потеху. Муж с женой должны жить как брат с сестрой; период влюбления должен у них продолжаться недели две в два года, а затем они должны жить чисто, как брат с сестрой...
— Ах, Лев Николаевич, я читала Арнольда — у него есть такие выборки из Евангелия. Когда прочтешь их, то впечатление получается чего-то действительно серьезного, глубокого... А ведь само Евангелие — книга, в которой и умное, и глупое, и смешное, и серьезное перемешано.
Он (т. е. Арнольд) говорил, что он уверен, когда-нибудь явится человек, одаренный особенным insight — как это по-русски? ясновидением? — который сумеет все это отделить, так что составится одно целое, нераздельное.
— Были вы, Иван Михалыч на картинной выставке? — спросил Лев Николаевич, которому барыня, видимо, окончательно надоела.
— Нет, а вы?
— Был сегодня... Но народу такая масса — не доберешься219«Николай чудотворец, останавливающий казнь»220. Я побоялся, что меня узнают, будут слушать, и ушел. Надо сходить, когда народу не будет так много.
— К вечеру, вас пропустят! — подхватила барыня.
— Да, часов в пять, когда народ разойдется...
— Видел я, как в Публичной библиотеке гуськом шел народ смотреть на вас, и просто вас пожалел, — сказал я.
— Народ гуськом? — переспросил он, смеясь.
Барыня заговорила что-то о письмах.
— Ах, Лев Николаевич! я и говорю некоторым: вы счастливые — вам придется еще что читать? Письмо Льва Николаевича! У меня есть ваших пять писем. Какое назидательное чтение!
Я сказал, что думаю, что все важное авторы выкладывают в главных сочинениях. Лев Николаевич согласился.
Барыня встала.
— Ну, я не стану вам мешать. Вы тут поговорите о своих делах — что тут Ольге Алексеевне мешать вам?
Я внутренне пожалел, что она уходит. С ее уходом прерывался и мой разговор с Толстым — мы как-то не умеем толковать с глазу на глаз. Поговорили мы немного про Петра Хельчицкого221, о котором (или мне так показалось?) Л. Н. как будто ничего не знал, я было упомянул имя одного из его последователей — Коменского, да пришел лакей и доложил о каком-то Павлушине222. Я простился.
— Вы нас не забывайте! Не покидайте меня!
На другой день я пришел в Публичную библиотеку справиться об Анненкове223, который занимался Хельчицким, разговорились потом о Толстом — глядь, он и сам тут! Пришел за книгами, где идет речь об американских сектах.
Посмотрел, что читаю. Видит — о Хельчицком.
— А у меня после вас были вчера Стороженко и Янжул224— имеете понятие? — и он только теперь выписал его себе. Заговорили мы вчера о Хельчицком...
— Что же, знает о нем Стороженко?
— Нет.
— Как? Да ведь это даже у Пыпина есть225, как же ему-то, профессору-то всеобщей литературы, не знать? Ведь вся и немецкая реформация-то взошла на чешских дрожжах!
— Это правда, — отозвался Николай Федорович.
— У них такая казенщина, — отвечал Л. Н., — но я спрашивал о Коменском — о Коменском он знает!
Вчера, после ухода барыни, я говорил Л. Н. о Коменском — о том, что он был педагог, имевший всеевропейское значение, на что он мне сказал: «Ну? ведь он был чех!» О Коменском он сказал, что это был не столько философ, сколько педагог.
— Да и у нас о Коменском есть много, — отозвался Николай Федорович, — есть его «Orbis pictus» — перевод еще прошлого столетия226.
Лев Николаевич уселся читать «Encyclopedia Britannica», а потом скоро ушел... Я сказал ему, что вчера забыл захватить книжечки о пьянстве.
— Да, я и сам вспомнил вчера, да вы уже ушли. Я впрочем всегда их имею с собой — вот вам, возьмите!
Он вынул из кармана и дал мне две книжки.
***
‹22 апреля 1889› Через неделю я пришел к Толстым. Оказалось — он одевается идти с двумя сыновьями в баню. Я сказал, что провожу их.
— А я сегодня был у Николая Федоровича, ходил за сочинениями Сен-Симона, — сказал Л. Н.227
— Мне он недавно говорил, что дорогой вы как-то беседовали с ним об искусстве с увлечением, ясно...
— Да, и я думаю, что ему понравилось...
— Он говорил, что понравилось. Вы, вероятно, уже все вполне себе уяснили и все написали.
— Нет.
— Как же так?
— Не удается, вот подите! Написать-то ведь надо так, чтобы комар носу не подточил228.
Он спросил теплое пальто, ему казалось, что на дворе холодно, дело было в апреле — 22-го. Надел, засунул руку в карман и вынул — карандаш.
— Ах, сломался, а я, бессовестный, взял его еще у другого человека!
— У кого же?
— У Фельдмана229 — имеете понятие?
— Как же.
— Он магнетизер, внушает. Приезжал сегодня нарочно ко мне с альбомом просить моего автографа. У него там автографы разных знаменитостей — Рубинштейна, Михайловских...
— И вы конечно не дали?
— Нет, не дал и, чтобы несколько утешить, повел к Гроту: у них сегодня заседание в Психологическом обществе. Там сегодня и Лопатин читает вторую половину своего реферата230. Почему «реферата»? — спросил он. — Просто читает синюю тетрадку...
Когда мы дошли до Девичьего Поля, я выразил удивление, как Хельчицкий сходен с ним, Львом Николаевичем, сходен, — что особенно удивительно, — даже в непротивлении злу.
— К стыду своему, я понятия не имею о Палацком. Что, на каком это языке? — спросил он, когда я сказал, что известия о Хельчицком есть между прочим и в «Истории» Палацкого231.
— Есть и на немецком.
— А я только что писал о том, что есть три рода деятельности. Тип первой это деятельность церкви: здесь для блага людей пускаются в дело все средства — и обман, и ложь, и благо, и зло; сюда принадлежит и деятельность правительственная (церковь только типичней всего), педагогическая и т. д. Другого сорта деятельность — полемическая. Это фаланстеры, критики и т. п. Здесь дают в малом виде образец, как жить. Это уж хуже — тут главная цель уже упускается из виду, упускается самое благо. Наконец, третья деятельность, единственно ведущая, по-моему, ко благу, единственно истинная — это оставить других в покое и держаться своего света... Франция исходила оба эти поля деятельности...
Мы дошли до бань на Плющихе. У ворот горели электрические фонари.
— Я не знаю, насколько Хельчицкий был причастен второму роду деятельности...
Я сказал, что причастен несомненно был, ибо во многих местах проповедей и «Сети веры» он тоже полемизировал...
— Пойдемте внутрь, — звал меня Л. Н., — посмотрите нашу баню!
‹...›
***
‹29 апреля 1889› В скором времени я опять был у Толстых232 — так через неделю. Пришел я вечером, в зале народу было множество. У стола сидела графиня, Илья и какой-то неизвестный мне господин. Они, видимо, были чем-то заняты; я наскоро поздоровался и отошел. Подошел Бирюков233
— Толкует с каким-то военным. Пойдемте в кабинет; там уж есть народ — все чающие движения воды.
— Пойдемте, пойдемте...
В кабинете сидело четверо: черный господин в очках (это был, оказалось, директор банка Дунаев234), один ученик Орлова, служивший на железной дороге, и два косматых студента235.
«движения воды».
Скоро явился и Л. Н.
— Фельдман был у меня сегодня опять, — сказал он, услыхав разговор, — много говорил об этих опытах, и я, признаюсь, почти уверился, что это чистое шарлатанство. Он рассказывал об одном субъекте, который страдал икотой вроде, знаете, собачьего лая, и еще о старушке, которая страдала болезнью вроде пляски св. Витта. Их, рассказывал он, как-то посадили друг с другом, спина к спине, пропустили через них ток, и больной заразился пляской, а старушка икотой. Они посадили людей и смотрят, что из этого выйдет. Уж что-нибудь да выйдет непременно. Ну, если взять коровье г‹...›, положить им на голову и смотреть, что из этого выйдет, конечно, что-нибудь выйдет!
Все засмеялись.
— У нас в семье стало это известно давно. Федор Толстой, американец236«В Камчатку сослан был, вернулся алеутом» — он был также и гипнотизер: у брата Сергея болели зубы, он загипнотизировал, и зубы прошли. Тут много самообмана!
И он рассказал, что недавно ему прислали роман, где прелестно выведен один умный, прекрасный человек, неспособный к обману, и рассказывается, как из угождения ему и его обманывают, и сам себя он обманывает.
— Когда я был в Париже, я видел там магнетизерку. Это такая была наглая обманщица! А вы, Иван Михалыч, не слыхали, приехал в Москву один персианин. Он мажет чернилами ноготь на пальце мальчика — мальчика надо невинного, ‹...› и в этих чернилах он может увидать вашего отца и кого хотите и узнать, что он делает. Лопатин к нему ездит, производит опыты и говорит, что из четырнадцати двенадцать были удачны. У этого мальчика спросили об одном мужике, какой он. Он и говорит: «Мужик в рубахе, в портках, все как следует». — «Ну, а нос у него какой?» — «Нос ничего...» А носа у него совсем нет. Спросили об одной нашей знакомой графине Т. — у ней усы и борода, вот как у Ивана Михайловича — и тоже ничего не вышло. Людям надо непременно отвлечься от главного дела — там заседанье, здесь исследовать спиритизм.
— А у меня был военный, некто Ершов237. Он писал о Севастополе и теперь хочет вновь издать свои воспоминания и просил меня написать к ним предисловие. Я было сгоряча и обещал, но как ни бился, почти ничего не выходит. Было одно живое место, но и то цензура не пропустит. Недавно приходил ко мне кадет, кончает курс, такой чистенький, пальто новое, башлык пропущен под погоны, глаза ясные, светлые, — и спрашивает, что ему делать.

Акварель И. А. Владимирова, 1908 г.
Справа автографическая подпись Толстого
Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград
— А вы спиртные напитки употребляете? — спрашиваю его. Он говорит, что с товарищами немного употребляет, что без этого в военной службе нельзя. Я было приготовился победоносно возразить, но он вдруг мне говорит: «Вот, например, Скобелев — когда брали Геок-Тепе и надо было убивать женщин и детей, а солдаты не хотели этого, не решались, он велел дать им водки». И при этом ясные глаза, спокойный вид! Вот где весь ужас! Цензура, конечно, этого не пропустит.
— И вы отделались? — спросил кто-то.
— Отделался, не буду писать. Мне рассказывали, что Ершов, член общества трезвости, сидел где-то с немцем в ужасно веселом настроении, и когда ему заметили, что ведь он член общества трезвости, он ответил, что это ничего, что он хоть и пьет, но не угощает. Могу себе представить, — продолжал добродушно Л. Н., — как он в этом отношении строг. — Пью, но не угощаю, Фридрих Вильгельмыч! а красненького?
Затем он показал мне перевод Алексеева «Основы этики», назвав его плохим, Библию, присланную ему из Ута мормонами. Он добродушно смеялся и дивился на эту новосветную подделку под Библию. Дошла очередь и до мормонской газеты «Rescret News».
— У них есть и газета, в ней и стихи и объявления обо всем. Индустриализм у них чуть ли не главное. Там у них, как и у нас в Москве, все есть: и велосипеды и паровые машины.
Кто-то упомянул про умершего министра Толстого и сказал, что в Петербурге теперь делается ужасно много арестов.
— Нигилисты и правительство теперь в ужасно смешном положении, — сказал Л. Н., — они и рады бы подраться, да не из-за чего! Все теперь думают, что со смертию Толстого что-то переменится — ничего не переменится, все то же будет!
У меня бывал Клопский238, о котором я уже упоминал; несколько раз я видал его и после. Это был человек и странный, и неприятный, и тупой. Он, кажется, нуждается и просил, между прочим, у меня уроков. Я ему прямо сказал: я рекомендую вас на урок, а вы вдруг скажете ученику, что бога нет и царя не надо. Кто будет тогда виноват? Раз увидав у меня в Публичной библиотеке церковнославянскую книгу, он церковнославянский язык обозвал гнилью, да кстати тут же прибавил, что Пушкин дурак. Он надоел Толстому, надоел Орлову, но, к удивлению, из знакомства с ними он кое-что извлек, кое-что пристало даже к нему.
Когда Л. Н. упомянул о нигилистах, я сказал, что он многих из них изменил, это заметно и на Клопском. Клопского, очевидно, все знали, все о нем заговорили, пошли намеки на его ограниченность.
— Если бы не вы, Клопского, право, давно бы повесили или сослали, — сказал я, — а теперь в нем заметна некоторая перемена, мягкость, словом, в этой дошедшей от 60-х годов окаменелости есть будто что-то живое.
— Да, это правда, окаменелость, — сказал и Л. Н., — но я думаю, он влюбляется.
— Как влюбляется, во что?
— Просто в женщин. Я знаю такой тип. Для людей этого типа отношение к женщине — все. Такие есть особенно между пожилыми, которые принуждены вести воздержную жизнь. О чем ни заговорите с ним, он все сведет на женщин. Я думаю, и Клопский такой же.
Раз я встретил Клопского близ Пречистенского бульвара — в каких-то поношенных, пахнувших толкучкой брюках, в таком же коротеньком пиджачке, в ужасной шляпе с широкими полями, с перекинутым на левую руку летним пальто и в коричневых перчатках. Я теперь вспомнил это, и мне невольно подумалось, что Л. Н. прав.
— Илюша сидит теперь в зале, — сказал Л. Н., не помню по какому поводу, — толкует теперь с каким-то неизвестным мне господином о какой-то купчей, впрочем, что же я говорю «о какой-то» — я знаю, что близ Никольского есть земля, которая продается, и вот теперь зачем-то надо эту землю купить...239
Мы заговорили с Сергеем. Он сказал, что в Петербург он уезжал, чтобы людей посмотреть и себя показать, что жить дома ему надоело, но теперь надоел и Петербург...
Гости сидели и ждали. Лев Николаевич, наконец, вернулся.
— Недавно я был на Хамовническом плацу и смотрел ученье, — сказал он, — смотрел, как они делали шаг вперед, шаг назад, и думал, что офицерам как будто было совестно того, что они делали240.
И он снова упомянул о поразившем его кадете.
— Вот где главное: уничтожьте весь этот ужас!
Дунаев отозвался, что кадетом обладает князь мира сего. Мне показалось это глупо, я заспорил, сказал, что ведь он даже в глаза его не видал, как же можно знать его душу.
Гости стали подниматься, чтобы идти.
— Я знаю одно, — сказал Л. Н., очевидно, не теряя внутри себя связи мыслей, — что, где истина, туда-то и направляются преследования людей!
Я сказал, что это неутешительно.
— Вот подите, а это так! И кто служит истине, тот должен терпеть гонения...
— Это слишком аристократично, — сказал я, — ведь для этого надо содержать контингент палачей.
— Это мысль, я знаю, Николая Федоровича, — ответил он, — но это бывает так!
Гости начали прощаться. Лев Николаевич их не удерживал.
— Раз я прощаюсь с одним православным и говорю ему: «Может быть, на том свете увидимся!» — «Покорно благодарю, — он мне отвечает, — я в огне гореть не желаю!»
Я вышел в зал. Там Сергей Львович играл на рояле. Он удержал меня. Пришел, проводив гостей, и Лев Николаевич. Мы сели пить чай.
— Теперь в Психологическом обществе читают о свободе воли, — сказал он, — по-моему, они занимаются пустяками. О свободе воли нового сказать ничего нельзя, все переговорено Лейбницем, Кантом. Чтобы сказать что-нибудь новое, надо новую постановку вопроса.
Я заметил, что Грот не Лейбниц, а Лопатин — не Кант.
— Недавно я встретил Грота, и он мне так ясно изложил сущность лопатинского реферата, что мне пришло в голову, что он — прекрасный компилятор. Если бы он молчал, мы бы все думали, что он может высказать ‹много› удивительных вещей...
На другой день, когда я рассказал Николаю Федоровичу о мормонских книгах, виденных мною у Толстого, он заметил:
— Прежде я говорил, что он составляет центр русских еретиков, а теперь надо сказать, что он центр еретиков всего мира!..
Что же касается офицеров, производивших ученье на Хамовническом плацу, то, мне кажется, Л. Н. ошибался. Когда я спросил одного офицера, видели ли они Толстого и что по крайней мере он чувствовал, занимаясь в это время ученьем, и не было ли ему совестно, он мне сказал:
— Что же нам было совеститься — мы делали свое дело! ‹...›
1* При подготовке настоящей публикации редакция произвела в воспоминаниях Ивакина ряд сокращений: сохранив все, что связано непосредственно с Толстым (записи его мыслей, его встречи, беседы и т. д.), редакция исключила большинство записей, в которых передаются высказывания о Толстом третьих лиц (Н. Ф. Федорова, В. Ф. Орлова и др.), а также несколько записей, не имеющих отношения к Толстому (о Л. Д. Урусове и др.). Кроме того, исключена полностью III глава, посвященная описанию Ясной Поляны: по сравнению с многочисленными уже опубликованными мемуарами, эта глава не дает ничего нового. — Ред.
2* начало́ быть, произошло (греч.).
3* Опускается глава III, посвященная внешнему описанию яснополянской усадьбы и дома Толстых. — Ред.
4* странник и пленительный учитель (франц.).
5*
6* у бога (греч.).
7* секира при корне дерев лежит (греч.).
8* у бога (лат.).
9* все произошло через него (греч.).
10*
11* объяла (греч.).
12* имя (греч.).
13* Если кто не родится от воды и духа (греч.).
14* всякая жидкость человеческого тела (нем.).
15*
16* Сколько понимаю, Стасов говорил об «Интермеццо для оркестра», которое навеяно было Мусоргскому в деревне в один из зимних праздничных дней. Не желая, вероятно, делать крюк, толпа мужиков пошла по занесенному снегом полю напрямик. Вышло и не скоро и не споро: приходилось вязнуть в снегу, выкарабкиваться и опять вязнуть... А в это время по настоящей торной дороге показалась группа поющих баб, которым весело было глядеть на вязнущих мужиков...37 — Прим. И. М. Ивакина.
17* «Евангелие спиритов» (франц.).
18* «Прогресс и бедность» (англ.).
19* Сударыня, были ли вы в Париже? (франц.).
20* непристойность (франц.).
21* «Граф Толстой — сапожник» (франц.).
22* дамский философ (франц.)
23*
24* Так в копии: 5 августа раньше 2 августа. — Ред.
25* Шутка действием (англ.).
26* глупые (франц.).
27* «Вестник Европы», 1886, май. — .
28* Графиня на некоторое время уезжала в Москву главным образом для того, чтобы начать новое издание сочинений Льва Николаевича вроде ‹изданий› Стасюлевича, которое должно было стоить рублей 7 р. 50—9. — Прим. И. М. Ивакина.
29* Деревня недалеко от Ясной Поляны, очень бедная. — Прим. И. М. Ивакина.
30* «Знание и прогресс» (итал.).